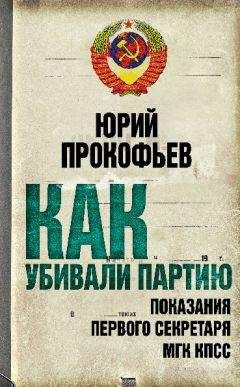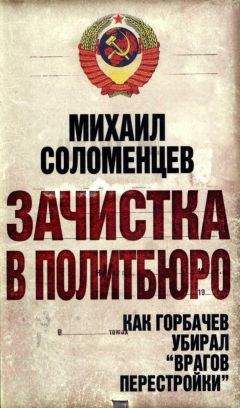Светлана Алексиевич - Цинковые мальчики
И как бы наново вспоминаю...
Старую крестьянку, рассказывающую, как девочкой сидела у окна и увидела, как в их саду молодой партизан бил наганом по голове старого мельника. Тот не упал, а сел на зимнюю землю с головой, рассеченной, как капуста. "И я тогда сбожеволила, сошла с ума, - говорила и плакала она. Меня долго мама с папой лечили, по знахарям водили. Как увижу молодого парня, кричу, в лихорадке бьюсь, вижу ту голову старого мельника, рассеченную, как капуста. Так замуж и не вышла... Я боялась мужчин, особенно молодых..."
Тут же в памяти давний рассказ партизанки: сожгли их деревню, ее родителей живыми, в деревянной церкви, и она ходила смотреть, как партизаны убивали пленных немцев, полицаев. До сих пор в памяти ее безумный шепот: "У них глаза вылазили из орбит, лопались, их закалывали шомполами. Я смотрела, и мне тогда становилось легче".
Я о том, что на войне человек познает о себе такое, о чем бы никогда не догадался. Ему хочется убивать, нравится - почему? Это называется инстинктом войны, ненависти, разрушения. Вот этого биологического человека, человека вообще мы не знаем, его не хватает в нашей литературе. Потому что недооценивали его в себе, слишком уверовав в силу слова и идеи.
Добавим еще к тому, что ни один рассказ, даже предельно честный не сравнится с самой действительностью. Она еще страшнее.
Сегодня мы живем в совершенно другом мире, чем тот, когда я писала свои книги о войне, и потому осмысливается все иначе. Нет, не придумывается, а передумывается. Можно ли назвать нормальной солдатскую жизнь в казарме, исходя из божественного замысла? От трагически упрощенного мира, в котором мы жили, возвращаемся к множественности вдруг обнаружившихся связей, и я уже не могу произносить ясных ответов - их нет.
Почему же я пишу о войне?
Нашим улицам с их новыми вывесками легче поменяться, чем нашим душам. Мы сегодня не разговариваем, мы кричим. Каждый кричит о своем. А с криком лишь уничтожают и разрушают. Стреляют...
А я прихожу к такому человеку и хочу восстановить правду того, прошедшего дня... Когда он убивал, или его убивали... У меня есть пример. Там, в Афганистане, парень мне кричал: "Что ты, женщина, можешь понять о войне? Пишущая барышня? Разве люди так умирают на войне, как в книгах и в кино? Там они умирают красиво. У меня вчера друга убили, пуля попала в голову.
Он еще метров десять бежал и ловил свои мозги... Ты так напишешь?" А через семь лет этот же парень - он теперь удачливый бизнесмен, любит рассказывать об Афгане - позвонил мне: "Зачем твои книги? Они слишком страшные". Это уже был другой человек, не тот, которого я встретила среди смерти и который не хотел умирать в двадцать лет...
Поистине человек меняет души и не узнает потом сам себя. И рассказ как бы об одной жизни, судьбе - это рассказ о многих человеках, которые почему-то называются одним именем. То, чем я занимаюсь уже двадцать лет, это документ, документ в форме искусства. Но я не знаю, что такое документ. Чем больше я с ним работаю, тем больше у меня сомнений. Единственный документ, документ, так сказать в чистом виде, который не внушает мне недоверия, - это паспорт или трамвайный билет. Но что они могут, если бы даже сохранились, рассказать через сто или двести лет (дальше нынче и заглядывать нет уверенности) о нашем времени и о нас? Только о том, что у нас была плохая полиграфия... Все остальное, что нам известно под именем документа - версии. Это чья-то правда, чья-то страсть, чьи-то предрассудки, чья-то ложь, чья-то жизнь.
В суде над моей книгой "Цинковые мальчики" документ вплотную, врукопашную столкнулся с массовым сознанием, тогда я еще раз поняла, что не дай Бог, если бы документы правили их современники, если бы только они одни имели на них право. Если бы тогда, тридцать-пятьдесят лет назад, они переписали "Архипеллаг ГУЛАГ", Шаламова, Гросмана... У Альберта Камю: "Правда таинственна и неуловима, и ее вечно приходится завоевывать заново". Завоевывать, разумеется, в смысле - постигать. Матери погибших в Афганистане сыновей приходили в суд с портретами своих детей, с их медалями и орденами. Они плакали и кричали: "Люди, посмотрите, какие они молодые, какие они красивые, наши мальчики, а она пишет, что они там убивали!" А мне матери говорили: "Нам не нужна твоя правда, у нас своя правда".
И это правда, что у них своя правда.
Так что же такое документ? Насколько он во власти людей? Насколько он принадлежит людям, а насколько истории и искусству? Для меня это мучительные вопросы...
Длинен путь от реальности к ее овеществлению в слове, благодаря которому она остается в архиве человечества. Но с самого начала надо признать, что реальности в форме настоящего времени как бы не существует. Нет настоящего, есть прошлое или будущее, или то, что Бродский назвал "настоящим продолженным временем". То есть реальность - это воспоминание. То, что было год назад, то, что было утром, или час, или даже секунду назад - это уже воспоминание о настоящем. Это уже исчезнувшая реальность, остановленная или в памяти, или в слове. Но согласитесь, что память и слово - очень несовершенные инструменты. Они хрупки, они изменчивы, они зависимы. Они - заложники времени. Между реальностью и словом еще находится свидетель. Три свидетеля одного события - это три версии... Три попытки истины...
Лидия Гинзбург, исследуя мемуары, обнаружила: чем талантливее мемуарист, тем больше он врет, то есть тем больше в них его воображения, чувств, интерпретаций, догадок. Так и мои герои, мои рассказчики талантливые заполняют время, события своим отношением к нему, они как бы творят его. Более достоверны, скрупулезны обычные люди, но я-то ищу рассказчика, который не просто живет, а запоминает, как он живет, потому что у обыкновенных другой грех - они не слышат музыки бытия, не чувствуют потаенного течения в наших днях высшего смысла, не улавливают многоликой связи между событиями, между рациональным и иррациональным.
И потому то, что называется материальностью документа, ткется из многих голосов... Ощущение точности и отдельности рождает множественность... Из многих рассказов-версий, исповедей - версий рождается версия времени. Она складывается из всего пространства времени, из всех его голосов. Версия это скорее автопортрет души, а не реальности. Я так и определяю жанр, в котором работаю, история чувств. Мой факт - чувство! От книги к книге складывается энциклопедия чувств, внутренней жизни людей моего времени. Тех поколений, которые я застала на излете, тех, что прошли рядом со мною, и тех новых, чей приход, надеюсь я, еще встречу... Получается одна книга о том: кто мы были, что называли добром, а что злом? Как любили? Почему убивали друг друга...