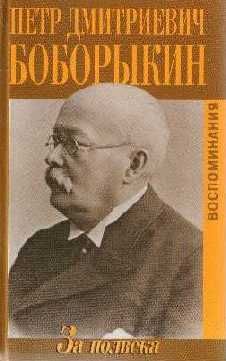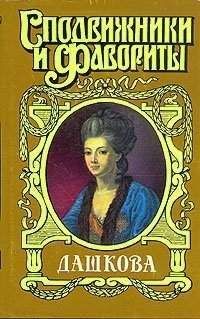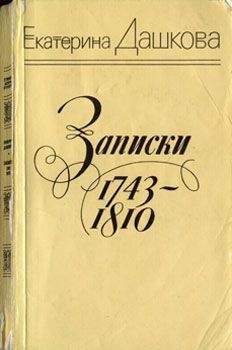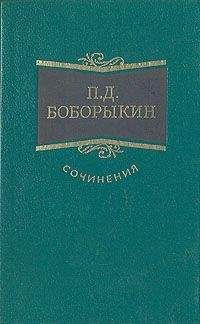Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания
Грозный «Василий Иваныч» (по фамилии Ланге) смахивал на чиновника, какими тогдашние губернские города были полны: вицмундирная пара, при узких брюках, орден на шее, туго накрахмаленная манишка, прическа с височками рыжеватого парика, бритое, начальническое лицо и внушительный тон в нос без явного немецкого акцента, но с какой-то особой «оттяжкой». Он был из военных, перешедших в гражданскую службу, кажется, из какого-то специального рода оружия, сапер или военных инженеров. Оставаясь в лютеранской вере, стоял неизменно впереди студентов в церкви на всех службах; и когда успевал посещать кирку — мы не знали. Нельзя сказать, чтобы он возмущал грубостью; больше вызывал он неприязнь своей чиновничьей выправкой и нежеланием снизойти до более мягких и доступных приемов. Строгости касались ношения формы, хождения к обедне, надзора в театрах, посещения трактиров.
Но известно было, что он с казенными обходился мягче, заглядывал запросто в столовую, выслушивал их просьбы, доставлял им и удовольствия, вроде даровых посещений концертов.
В сущности, инспекторский надзор с его «субами», которых в грош не ставили, не проникал в глубь студенческой жизни. Домашнего соглядатайства не было, и под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы — пьянство, буйство, половая распущенность, И посещение лекций не состояло ни под чьим контролем. Были круглые лентяи, по полугодиям не ходившие на лекции, никаких записываний субами не водилось, ни перекличек, ни отметок, какие производили так недавно «педеля». О педелях никто не имел и понятия, разве по рассказам о дерптских порядках, откуда их, в другие времена, и заимствовали.
Поступив на «камеральный» разряд, я стал ходить на одни и те же лекции с юристами первого курса в общие аудитории; а на специально камеральные лекции, по естественным наукам, — в аудитории, где помещались музеи, и в лабораторию, которая до сих пор еще в том же надворном здании, весьма запущенном, как и весь университет, судя по тому, как я нашел его здания летом 1882 года, почти тридцать лет спустя.
Одна из профессорских фигур, которая сразу заинтересовала меня своей внешностью, была фигура худощавого брюнета, в черном пальто и высокой шляпе с трауром. Он поднимался с площадки наверх, где помещалось правление.
— Это Мейер! — назвал мне кто-то с особым выражением.
Знаменитого цивилиста мне не привелось слушать ни на первом, ни на втором курсе: гражданского права нам, камералистам, не читали. Позднее он перешел в Петербургский университет, где и сделался его украшением.
Он худощавым лицом нервного брюнета и всем своим душевным складом и тоном выделялся, как оригинальная и тонкая личность. Мы, «камералы», знали, что он нас не очень жалует, считая какими-то незаконными чадами юридического факультета. Юристы его побаивались и далеко не все хорошо усваивали себе его лекции. Он был требователен и всячески подтягивал своих слушателей, заставлял их читать специальные сочинения, звал к себе на беседы.
Для нас, новичков, первым номером был профессор русской истории Иванов, родом мой земляк, нижегородец, сын сельского попа из окрестностей Нижнего. В его аудитории, самой обширной, собирались слушатели целых трех разрядов и двух факультетов.
Как и герой романа «В путь-дорогу», я впервые услыхал его зычный возглас «Милостивые государи!», который так ласкал наш слух сознанием, что мы не мальчишки, а взрослые слушатели, которым надо говорить «милостивые государи!»
Чисто камеральных профессоров на первом курсе значилось всего двое: ботаник и химик. Ботаник Пель, по специальности агроном, всего только с кандидатским дипломом, оказался жалким лектором, и мы стали ходить к нему по очереди, чтобы аудитория совсем не пустовала. Химик А. М. Бутлеров, тогда еще очень молодой, речистый, живой, сразу делал свой предмет интересным, и на второй год я стал у него работать в лаборатории.
Кроме Мейера у юристов, Аристова, читавшего анатомию медикам, и Киттары, профессора технологии, самого популярного у камералистов, никто не заставлял говорить о себе как о чем-то из ряду вон. Не о таком подъеме духа мечтали даже и мы, «камералы», когда попали в Казань.
Того обновления, о каком любили вспоминать люди 40-х годов, слушавшие в Москве Грановского и его сверстников, мы не испытывали. Разумеется, это было ново после гимназии; мы слушали лекции, а «не заучивали только параграфы учебников; но университет не захватывал, да и свободного времени у нас на первом курсе было слишком много. Вряд ли среди нас и на других факультетах водились юноши с совершенно определенными, высшими запросами. Лучшие тогдашние студенты все-таки были не больше, как старательные ученики, редко шедшие дальше записывания лекций и чтения тех скудных пособий, какие тогда существовали на русском языке.
По некоторым наукам, например хотя бы по химии, вся литература пособий сводилась к учебникам Гессе и француза Реньо, и то только по неорганической химии. Языки знал один на тридцать человек, да и то вряд ли. Того, что теперь называют «семинариями», писания рефератов и прений, и в заводе не было.
Созывали нас на первом курсе слушать сочинения, которые писались на разные темы под руководством адъюнкта словесности, добродушнейшего слависта Ровинского. Эти обязательные упражнения как-то не привились. Во мне, считавшемся в гимназии «сочинителем», эти литературные сборища не вызвали особенного интереса. У меня не явилось ни малейшей охоты что-нибудь написать самому или обратиться за советом к Ровинскому.
Вообще, словесные науки стояли от нас в стороне. Посещать чужие лекции считалось неловким, да никто из профессоров и не привлекал. Самый речистый и интересный был все-таки Иванов, который читал нам обязательный предмет, и целых два года. Ему многие, и не словесники, обязаны порядочными сведениями по историографии. Он прочел нам целый курс «пропедевтики» с критическим разбором неписьменных и письменных источников.
О профессор словесности Буличе мы не имели никакого ясного представления. Филологи-классики, профессора восточных языков — все это входило в область каких-то более или менее «ископаемых». Исключение делали для известного в то время слависта В. И. Григоровича, и то больше потому, что он пользовался репутацией чудака и вся Казань рассказывала анекдоты о его феноменальной рассеянности. А адъюнкт всеобщей истории Славянский, которого звали все «Мишенька», приобрел популярность своей ленью, кутежами и беспорядочным ухарством, с каким он читал лекции, когда являлся в аудиторию.
Два-три немца, профессора римского и уголовного права и зоологии, были предметами потешных россказней, которые мы получили в наследство от старых студентов.