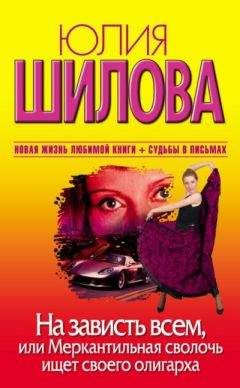М.-А. Лекуре - Рубенс
Очевидно, что первые фламандцы ограничивались тем, что просто и без затей, черточку за черточкой, не утрируя и не меняя, переносили на свои полотна то, что представало их глазам. Принимая действительность такой, какая она есть, они сообщали живописи точность науки, за что их и осуждал Микеланджело, полагавший, что искусство обязано из обыденного выделять героическое, и упрекавший фламандцев в отсутствии идеалов.28
Однако это точное воспроизведение видимого мира в итоге оказывалось отнюдь не таким уж наивным и безобидным. Скорее наоборот. И причиной тому следует признать пронизывающий произведения фламандцев дух символизма. «Чем радостнее и старательнее художник открывал для себя и переносил на полотно черты видимого мира, тем явственнее он начинал ощущать непреодолимую потребность ухватить сконцентрированную сущность каждого элемента. И наоборот, чем упорнее он стремился выразить мысленный образ дотоле неведомой мудрости, тем сильнее разгоралась в нем жажда к исследованию новых пластов действительности».29 И в самом деле, живопись фламандцев не столько зеркало, сколько открытая книга. Каждый физический объект, по определению святого Фомы, есть телесное воплощение духовной сущности. Творчество фламандцев предстает в этом свете некоей аллегорией целой Вселенной, одухотворенной уже в силу того, что ни одно ее проявление не сводится к простому восприятию органами чувств. Мир фламандцев не так прост. Под верхним слоем цепкой, иногда недоверчивой, наблюдательности прячется их метафизическое изумление реальным миром.
Микеланджело не слишком высоко ценил фламандское искусство, однако отдавал ему дань уважения. Вплоть до XVI века обе школы — фламандская и итальянская — сосуществовали в непрестанном соперничестве, причем за фламандцами оставалось явное превосходство в технике, тогда как итальянцы в основном пользовались преимуществами, которые дарил им благословенный климат. Художники и музыканты гораздо охотнее путешествовали с севера на юг, нежели в обратном направлении.
С начала XVI века направление вектора влияний в искусстве изменилось. В Италии наступил мир и покой. Бывшие кондотьеры сделались владетельными сеньорами. Между отдельными государствами или даже семействами еще продолжались кровавые стычки, но война перестала играть роль главного и основного дела жизни. Властители открыли для себя, что в мире существует такая прекрасная вещь, как комфорт. Свое могущество они отныне стремились утверждать не только силой оружия, но и пышностью своего двора, для чего собирали вокруг себя художников и ковроделов, ювелиров и музыкантов, не забывая о поэтах, которым вменялось в обязанность прославление блеска земного бытия своих господ.
Если в Италии воцарился мир, то в северных странах, напротив, разгорался пожар войн. На многие десятки лет они превратились в поле битвы, где свирепствовали религиозные фанатики, солдатня и вечная спутница войны — голодуха. Разоренный, ослепленный гражданскими войнами Север уже не воспринимал света Возрождения. Между тем Италия, обратив взор в античное прошлое, действительно становилась авангардом культуры. И Германии, и Фландрии не оставалось ничего иного, как лишь заимствовать у южного соседа богатства духовной жизни.
В Италию перебрался Дюрер, и не только он. Многие и многие художники и резчики по дереву, которым не терпелось своими глазами взглянуть на творения античного искусства, потрогать своими руками древнеримские инталии и камеи, все люди искусства, очарованные древними мифами и чистотой итальянского неба, спешили сюда, прочь от схоластики, сражений и серых туч. Первыми из фламандцев решились на путешествие Скорель и Бернард ван Орлей из Брюсселя. В XVI веке за ними последовал Метсис, а затем потянулись и другие, чья слава не дожила до наших дней, но кого по возвращении именовали фламандскими Рафаэлями и Микеланджело, столь благодатным оказалось для них пребывание в Италии. Так во Фландрии, а если точнее, — в Антверпене, образовался кружок «романистов». Благо или зло таилось в этом для страны, взрастившей ван Эйков, ван дер Вейдена, Патинира и Метсиса?
В 1604 году нотариус Карел ван Мандер с удовлетворением писал об обстановке мира и покоя, сложившейся в папской Италии, а также о том, что забота, которой окружили людей искусства в этой стране ее владыки, не могла принести художникам ничего, кроме пользы: «Просвещенные итальянцы раньше нас поняли истинный характер и совершенство пластических форм, что никак не давалось нидерландским мастерам, привыкшим к одной и той же определенной манере. Не имея достаточных знаний, но стремясь к совершенству, они старались, как могли, имитировать жизнь, но оставались, если можно так выразиться, в потемках. Так длилось до тех пор, пока Ян ван Скорель не возвестил им о том, что на свете существует Италия, и не поведал им о том, как следует совершенствоваться в искусстве».30
Действительно ли имело место «совершенствование»? Фламандцы приезжали в Италию, привозя с собой собственные национальные черты — «методичность и упорство».31 Они искренне восхищались итальянскими образцами и, стремясь извлечь из них урок, смотрели на них теми же глазами, какими привыкли смотреть на мир природы, тот самый мир, который переносили на свои полотна с точностью энтомологов. Не решаясь дистанцироваться от увиденного, они восприняли его как некий идеал, если не сказать шаблон, доступный тиражированию. Феномен искусства предстал перед ними в одном ряду с явлениями природы, а уж наблюдать природу они умели как никто. Разумеется, попав на полуостров, эти будущие «романисты» впитывали в себя достижения итальянской культуры в целом, но опять-таки «заглатывали» их все подряд, без разбора, и главное — без того свойственного «основоположникам» пытливого проникновения в сущность художественного образа, которое в любой метафоре стремится узреть корни реальности. Опасность, подстерегавшая фламандцев XVI века, заключалась в том, что они заранее внутренне согласились на разрыв с национальной традицией вместо того, чтобы попытаться обогатить ее за счет плодотворной ассимиляции с иной культурой.
Фламандцы всегда были народом-купцом. Крупные состояния сколачивались в основном за счет торговли, то есть в результате практической деятельности, а вовсе не благодаря высокому происхождению. Самое богатое сословие, позволявшее себе заниматься меценатством, представляли купцы и банкиры. Этим, в частности, объясняется и тот факт, что центр фламандской живописи переместился из Брюгге сначала в Гент, а затем и в Антверпен. По мере того как песчаные заносы меняли облик реки Шельды, сдвигая припортовую торговлю к Брабанту, смещался центр деловой активности, и художники переезжали вслед за теми, от кого получали заказы. Этим объясняется и та неизбежная связь, которая соединила прагматичное искусство с теми, кто его поддерживал, то есть с людьми, которым развлечения карнавала радовали сердце куда больше, нежели толкование текстов Платона или придворные изыски. Иного искусства, кроме «заказного», в ту пору просто не существовало, а что мог заказать мастеру лавочник? Запечатлеть свою лавку или написать портрет жены, изобразить его самого за прилавком или за молитвой, с набожно сложенными у груди руками. Но именно эта «проза» спасла от уничтожения нидерландскую живопись в те годы, когда сторонники Лютера рвали и жгли картины религиозного содержания, обвиняя папистов в идолопоклонстве. Немецкие художники, изгнанные из алтарей, обратились в этих условиях к портретной живописи, а нидерландцы продолжали совершенствоваться в том, в чем и так преуспели, — в пейзаже и жанровой сцене.