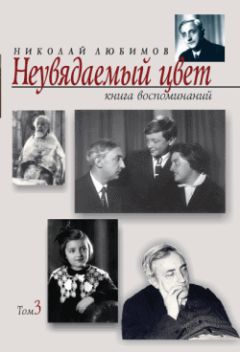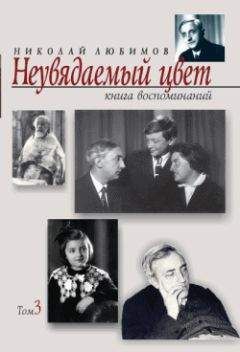Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2
Утром я узнал, что гепеушники задержали Виктора Яльмаровича, когда он, только-только переодевшись и разгримировавшись, в щегольском костюме и заграничных ботинках» выходил из артистического подъезда Театра оперетты, и препроводили его прямехонько на Лубянку, а в это время другие явились к нам с обыском. На вопрос, заданный ими Юрьеву: «Где вещи Армфельта?», Юрий Михайлович ответил: «Здесь нет вещей Армфельта и нет моих вещей, у нас с ним все общее. Вот наши две комнаты – делайте обыск везде, где найдете нужным».
Ночные гости произвели обыск поверхностно; разумеется, ничего предосудительного с их точки зрения не обнаружили и ничего не отобрали, в комнату жившей тогда на даче Маргариты Николаевны и в комнату Александры Александровны не сунулись, меня будить не стали.
Юрьев горевал так, как может горевать только любящий отец о единственном сыне. Переносил он свое горе с достоинством, никому его не навязывая, не скуля и не хныча, но в глазах у него стояла такая тоска, что я, говоря с ним, отводил глаза. Он не знал, куда девать себя. Его, прежде общительного, никуда и ни к кому не тянуло, и никого он к себе не звал. Шумным пирам до зари пришел конец. В свободные от театра вечера он все ходил, ходил по двум большим, сразу опустевшим комнатам, – оживление вносил в них энергичный, подвижной Виктор Яльмарович, Проснешься ночью – за стеной все те же бессонные шаги.
И вдруг Юрьев вспомнил, что у него давно валяется договор с издательством «Academia» на книгу записок. Вспомнил, засел и увлекся. Теперь он все свободные вечера просиживал за письменным столом. Кто знает, может быть, так и не появились бы его замечательные «Записки», не свались на него нежданная-негаданная напасть?..
Бывало, сидишь вечером в комнате у Маргариты Николаевны и что-то тоже строчишь. Легкий стук в дверь. С озабоченным и несколько сконфуженным видом, попыхивая папиросой, стоит на пороге Юрий Михайлович.
– Я забыл… Как называются эти кони, вот что над Большим театром?
– Квадрига?
– Да, да, квадрига, квадрига!
А то принесет листочек, покажет:
– Какой тут должен быть надет?
Он читал мне самые первые наброски, и я тогда же был потрясен емкостью его артистической памяти, благожелательной меткостью суждений и наблюдений, художественностью изображения. Он чувствовал слово как прирожденный прозаик, но только искони враждовавший с российской грамматикой.
Летом 37-го года Маргарита Николаевна говорила мне:
– У нас был Юрий Михайлович, читал о «Талантах и поклонниках» с мамой-Негиной, с Ольгой Осиповной – Домной Пантелеевной. Так все запомнить!.. До мельчайших подробностей!.. Это чудо, просто чудо!.. И ведь именно так все и было: я-то видела спектакль много раз!.
Мне было жаль Виктора Яльмаровича, жаль осиротевшего Юрия Михайловича, но за себя я нисколько не боялся – и не потому, что я был твердо уверен в порядочности Виктора Яльмаровича, нет, просто мысль о том, что меня могут арестовать, не залетала мне в голову.
Дурные предчувствия, которым суждено сбыться, наплывают, как облака. И они свиваются, эти предгрозовые облака, и они клубятся… Еще светит солнце, почти весь небосвод еще чист, но там, откуда находят облака, – хотя и невнятно, но погромыхивает.
Внезапно, вне всякой связи с арестом Виктора Яльмаровича, облака дурного предчувствия стали обволакивать мою душу. Выйдя на улицу, я огляделся, не следят ли за мной. Мне хотелось как можно скорей замешаться в толпу, хотелось петлять, сбивать невидимых загонщиков со следу. Хотелось сесть в поезд и заехать в такую глушь, откуда даже рука ГПУ не смогла бы меня извлечь. Я уговаривал себя, что это дичь, бред, что сажать меня не за что, но ничего с собой поделать не мог. Маргарита Николаевна запомнила, что, приехав к ней как-то на дачу в Голицыно, я ни с того ни с сего заговорил о том, что, рано или поздно, меня непременно схватят. И так же внезапно я перестал об этом думать. Хворь сняло с меня как рукой.
Погромыхиванье стихает, ты не смотришь в ту сторону, откуда находят тучи, ты о них начисто забываешь.
6 октября в воскресенье, я, напившись чаю, собрался в читальный зал.
– Тебя кто-то спрашивает, – сказала Маргарита Николаевна.
Я вышел на лестницу и с удивлением увидел троюродную сестру свою Иру – она у меня никогда не бывала. Лицо у нее было желтое, как у больной желтухой, веки припухли. Я провел ее в свой коридорчик, усадил на постель, и тут она, давясь рыданиями, еле смогла выговорить, что вчера ночью арестовали и увезли тетю Лилю с Володей[14].
И разум, и душа отказывались верить, что с моими родными, которых я недавно видел благополучными, замотанными, но жизнерадостными, – как ни утомительна житейская круговерть, она все-таки радостна, ибо это есть жизнь, – что с ними стряслась одна из самых страшных бед, постигающих на земле человека: круговерть для них остановилась. И за что могли схватить такую божью коровку, как тетя Лиля, и семнадцатилетнего Володю? Хотелось верить, что напутала что-нибудь Ира или что их взять-то взяли по ошибке, но сейчас они уже дома. И опять страх за себя даже слегка не кольнул меня в сердце.
Ты не смотришь в сторону туч, ты начисто о них позабыл.
Вечером я поехал на Александровскую площадь, где жили тетя Лиля, ее старшая сестра Катя и Володя.
Когда тетя Катя впустила меня в свою комнату, мне почудилось, будто здесь снова идет обыск, и я невольно попятился: все в комнате было перевернуто, вывернуто и раскидано по полу. Большая комната с высоким потолком была слабо освещена висячей лампочкой, и в дальнем конце ее я увидел женщину: она сидела в кресле у окна. Взглянув на нее, я утвердился в своем предположении, что у тети вторично делают обыск: в меня так и влились глаза незнакомки. Я подумал, что обыск производится под ее руководством. Только почему тетя Катя не предупредила меня в коридоре?.. Вдобавок женщина была в зеленом платье, которое я в полумраке принял за подобие военной формы. Я оглянулся – где же ее подручные? Но тут, к вящему моему изумлению, тетя Катя нас познакомила:
– А это Нина Явдох, Лиленькина родственница и подруга, с которой тебе все не удавалось у нас встретиться.
Я вспомнил… Нина Явдох, родственница тети-Лилиного мужа, служившая на международной телефонной станции, после долгой разлуки недавно вновь всплыла на горизонте тети Лили, зачастила к ней, водила ее по театрам. Мое гадливое чувство к ней, однако, не улетучилось, – напротив, оно росло о каждым мгновеньем. Все мне было отвратно в ней: и рыжеватые волосы, и цвета молочной сыворотки белки ее выпуклых глаз, и желтые злые зрачки, и тонкие, беспрестанно кривившиеся губы, и нестерпимое для русского слуха, польское, словно разбавленное водой произношение звука «л».