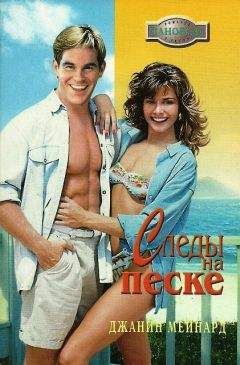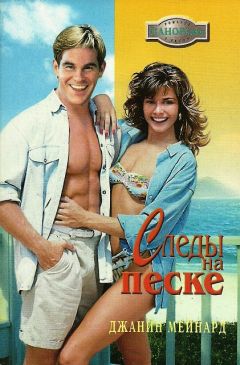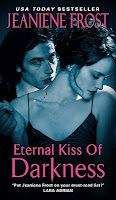Екатерина Мишаненкова - Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы
Это было довольно любопытно, и в другой ситуации я бы поподробнее расспросила ее об Иванове. Но приходилось помнить, что у нас осталось всего два разговора, не считая этого, так что я предпочла вернуться к вопросу о творчестве и попросила ее рассказать о своей первой книге. Она на удивление пренебрежительно сказала:
– Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатывались Бог знает сколько раз. Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама я не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, я даже уехала в Италию весной 1912 года, а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые – у них не выходит книжка».
– Но почему?! – изумилась я.
Она с сожалением посмотрела на меня.
– Вам не понять. Не стоит обижаться, это не ваша вина. Я не смогу объяснить. Это либо понимается сердцем, либо не понимается никак и никогда.
На сей раз она сбила меня с толку, и я даже подозревала, что это было сделано специально. Она стала слишком раскрываться передо мной и сама это почувствовала – возможно, дело в этом. Я уже сталкивалась с таким поведением пациентов, когда им, с одной стороны, хотелось разговаривать со мной, их радовало, что я их понимаю, а с другой – им начинало казаться, что я вижу их насквозь (хотя это, конечно, было совсем не так). А творческим людям особенно неприятно, когда их видят насквозь, им необходимо оставаться загадкой. И сейчас Ахматовой это вполне удалось – я не сомневалась в правдивости рассказанного эпизода и в то же время слышала гордость в ее голосе, когда она с нарочитой небрежностью говорила, сколько раз переиздавался ее первый поэтический сборник.
– Хорошо, – я решила сменить тему, – тогда давайте поговорим о вашей жизни и творчестве до революции. Гумилев все же оказал влияние на ваше творчество, или вы оба оказались акмеистами, так сказать, каждый сам по себе?
Ахматова благосклонно восприняла смену темы разговора. Тем более что она явно получала удовольствие, вспоминая старых друзей и врагов и подпуская на их счет острые шпильки.
– 10-й год – год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911-й – год Китайской революции, изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий… «Кипарисовый ларец»… Кто-то недавно сказал при мне: «10-е годы – самое бесцветное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: «Кроме всего прочего, это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева». Конечно, в это, как и во всякое время было много безвкусных людей, например Игорь Северянин. Подозрительна также «слава» Брюсова (однако тогда она уже сильно померкла). По сравнению с аляповатым первым десятилетием 10-е годы – собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину и выпустила при этом много крови – я о войне 1914 года. Кто-то другой сказал мне: «Те, кого вы встречали в Париже в 1910–1911 годах, и были последние французы. Их всех убили под Верденом и на Марне». Потом я прочла это в Le Sursis Сартра. Хороши были и те, кто в 1917 году летом поехал играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся game! Как страшны эти оборванные биографии…
* * *Домой я в этот вечер вернулась поздно и очень уставшая – после работы было еще партсобрание. К счастью, никто даже не упомянул о том, что я слишком много времени уделяю пациентке, которую недавно сам Жданов объявил буржуазным поэтом и литературным проходимцем. Как я и думала, звонили не только мне. Жаль, я не могу узнать, что сказали главврачу, может, тогда стало бы немного понятнее, чего именно от меня ждут.
Судя по любопытствующим взглядам, желающих порасспросить меня об Ахматовой было немало, но никто так и не решился. Да и я не горела желанием ни с кем о ней говорить, поэтому старалась держаться все время в толпе, а сразу после собрания как можно незаметнее ускользнула.
Андрей был уже давно дома и даже поужинал – вчера, зная о предстоящем собрании, я приготовила на два дня вперед, благо сейчас уже прохладно, можно оставить еду в кастрюле на балконе, не испортится. А вот летом…
Честно говоря, еще с 1939 года моей голубой мечтой был холодильник – Андрей ездил в Харьков делать репортаж об этом чуде бытовой техники, только запускаемом в производство, а когда вернулся, рассказал мне. А впервые увидела я холодильник в квартире главного редактора – его жена водила всех женщин на кухню и с гордостью демонстрировала небольшой шкафчик на сто двадцать литров, в котором летом было холодно почти как зимой. Андрей обещал, что еще годик, и нам тоже удастся такой купить, но началась война, и домашнюю технику перестали выпускать. Да и мне стало, конечно, уже не до холодильников. Но сейчас – почему бы нет? Надо будет напомнить о его обещании.
Ну а пока я торопливо перекусила и села расшифровывать свои записи. Ахматова очень интересно рассказывала об акмеизме и поэтах Серебряного века, и хотя большая часть этого была не слишком нужна мне для установления диагноза, но все же кое-что интересное и важное из ее историй можно было почерпнуть. А главное, они очень четко обрисовывали некоторые черты ее характера, которые в общении со мной иначе бы даже не проявились.
«…“Цех поэтов” был задуман осенью 1911 года в противовес “Академии стиха”, где царствовал Вячеслав Иванов. Николай Степанович до этого мало знал Городецкого, который вообще был гораздо старше нас всех и уже отведал чулковского “мистического анархизма” и “соборности”, как-то очень скоро вышел из моды, перестал быть “солнечным мальчиком” Сережей Городецким и искал очередной спасательный круг (S.O.S.). Первое собрание “Цеха”, весьма пышное, с Блоком и французами было у Городецкого, второе – у Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой в Манежном переулке. В тот день я познакомилась с Лозинским.
Вскоре возникли беседы о необходимости отмежеваться от символизма, который, кстати сказать, уже год тому назад, в 1910 году, объявил себя в состоянии кризиса. В это время Николай Степанович писал стихи, вошедшие в сборник “Чужое небо”. Итак, своим первым акмеистическим сборником он считал “Чужое небо”. “Жемчуга” появились весной 1910 года, т. е. задолго до начала разговоров о новом направлении. В статье-некрологе 1921 года Георгий Иванов в отзыве на “Огненный Столп” утверждает, что только с “Чужого неба” начался настоящий Гумилев, но даже он не замечает единство пути от первой книги до “Огненного Столпа”.
В новом издании Блока есть очень интересная запись: “Мы были правы, когда боролись с псевдореалистами, но правы ли мы теперь, когда боремся с, может быть, своим Гумилевым”.