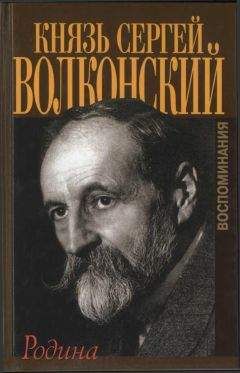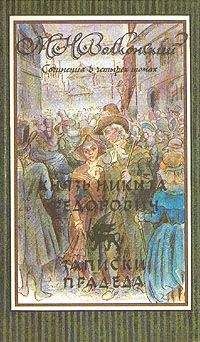Юрий Анненков - Дневник моих встреч
Михаил Кузьмин
Присев к роялю, Мишенька Кузмин напевал вполголоса под собственный аккомпанемент столь несвоевременные куплеты:
Если завтра будет солнце,
Мы на Фьезоле поедем;
Если завтра будет дождь —
То карету мы наймем.
. . . . . . .
Если денег будет много,
Мы закажем серенаду;
Если денег нам не хватит —
Нам из Лондона пришлют.
Если ты меня полюбишь,
Я тебе с восторгом верю;
Если не полюбишь ты —
(Кузмин делал здесь длинную паузу)
То другую мы найдем…
— Крохотное Фьезоле, — сказал Блок, подходя к роялю, — да:
Стучит топор, и с кампанил
К нам флорентийский звон долинный
Плывет, доплыл и разбудил
Сон золотистый и старинный…
Не так же ли стучал топор
В нагорном Фьезоле когда-то,
Когда впервые взор Беато
Флоренцию приметил с гор?
Дорогой Михаил Алексеевич Кузмин, незабываемый друг… Его акварельный портрет моей работы, исполненный в менделеевской квартире в 1919 году, был приобретен Музеем Александра Третьего, переименованным в Русский музей. Где находится теперь этот портрет, мне неизвестно. Может быть, в подвале музея, наказанный за «формализм»[24].
Не могу не привести здесь следующее стихотворение Кузмина, напечатанное в сборнике его поэзии «Вожатый» (изд. «Прометей», С.-Петербург, 1918):
ПСКОВСКИЙ АВГУСТ
Ю.П.Анненкову
Веселушки и плакушки
Мост копытят козами,
А заречные макушки
Леденеют розами.
По пестро-рябым озерцам
Гребенцы наверчены.
Белым, черным, серым перцем
Лодочки наперчены.
Мельниц мелево у кручи
Сухоруко машется.
На березы каплет с тучи
Янтарева кашица.
Надорвясь, вечерня, шмелель, —
Взвякивает узенько.
Белки снедки мелко мелель, —
Тпруси, тпруси, тпрусенька.
Завинти, ветрило, шпонтик, —
Что-нибудь получится!
Всколесила желтый зонтик
На балкон поручица!
1917. Август
Собрания или, вернее, сборища происходили у меня по крайней мере по два, по три раза в неделю: квартира была обширная. И так как я увлекался тогда также и цирком (и даже напечатал в «Жизни искусства» нечто вроде цирковой апологии под названием «Веселый санаторий»), знаменитый клоун Дельвари по-приятельски обучал меня в менделеевской зале хождению на руках…
Потом подошла зима. Топлива не было. Зима разъярялась. Я ложился спать в тулупе и валенках, в барашковой шапке, накрываясь одеялами и коврами. К утру металлический остов кровати, мои брови и ресницы покрывались крепким инеем. Самогонная химия уже не помогала. Водопроводные трубы сначала замерзли, потом полопались. Уборная не действовала. По всяким пустякам приходилось спускаться во двор. Умывание стало редкостью. Я сжег в печи сначала дверь, отделявшую ученый кабинет от прихожей, затем дверь из коридора в кухню. Потом наступила очередь паркетин: я начал с прихожей… Затем мной овладел ужас: еще немного, и мне придется кощунственно сжигать библиотечные полки, если не самые книги. Однажды утром, по сигналу одного из друзей, я в тулупе и в валенках (а может быть, и с менделеевским стеганым одеялом) перекочевал на Кирочную улицу в покинутую квартиру какого-то сбежавшего за границу «свитского» генерала. Менделеевская библиотека была спасена — по крайней мере, с моей стороны.
Это там, в менделеевской квартире, во время ночной засидки Блок читал мне стихи, как будто написанные им для меня.
Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда…
. . . . . . . .
Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!
Почему мне было так близко и так волновало меня это стихотворение? Оно было написано в 1911 году в Абервраке, на севере Бретани. В том же году и в те же месяцы, по случайному совпадению, я тоже жил на севере Бретани, в приморском городке Роскофе, всего за 35 километров от блоковской гаваньки, в которую я заехал как-то раз, но где ни Блока, ни военных кораблей не видал. Париж, Лондон, Канн, столицы, большие курорты принадлежат международному хаосу, общепринятому безличному маршруту. Но столкнуться в безвестном иностранном захолустье — это уже не маршрут, а личный зигзаг судьбы, который часто содержит для многих из нас эмоциональный элемент. Не помню, с чего начался наш разговор, приведший к бретонским воспоминаниям. Я практиковался в роскофской лаборатории экспериментальной зоологии в научной зарисовке невидимого невооруженным глазом мира, просиживая долгие часы над микроскопом, открывшим мне ту «новую реальность», которую я встретил впоследствии на холстах Кандинского и многих других живописцев, претендовавших на изобретение беспредметного искусства. Блок удивленно слушал меня и вдруг спросил, не лежал ли на плоской крыше этой лаборатории гигантский скелет кита?
— Да! — закричал я. — Конечно, лежал!
И я припомнил, что я спал иногда в его челюсти, слишком ясными и звездными ночами, подкладывая под голову мой пиджак. Блок дважды был в Роскофе во время каких-то экскурсий, заходил осматривать аквариумный зал лаборатории и подымался на крышу. Блок добавил, что у него хранится даже открытка с фотографией скелета.
Дружба с загорелыми и заскорузлыми рыбаками в желтых клеенчатых куртках, зеленое море, черные силуэты бретонок в кружевных головных уборах, прибрежные камни и скалы, ночная игра маяков, цокот деревянных сабо… В менделеевской квартире при стеариновом огарке (так как электричество тоже «не действовало») мы были в ту ночь далеко от «революционной советской действительности». Нас вернули в нее бледные вертикальные полосы рассвета в разрезах оконных штор.
Далекая Бретань (Конец земли — Finistere) предстала для нас в ту ночь «закутанной в цветной туман». Сегодня, в Париже, возникает передо мной в этом цветном тумане далекая Россия, трагический, неповторимый тогдашний Питер…
Там же, на Захарьевской улице, происходил наш спор, когда Блок заговорил о родстве поэзии с музыкой. Я заметил ему, что их сущность, кажущаяся однородной, диаметрально противоположна одна другой. Музыка совершенно интернациональна, наднациональна, общедоступна: она не нуждается даже в переводчике. Поэзия, напротив, глубоко национальна, замкнута в себе и даже не поддается переводу, непереводима.