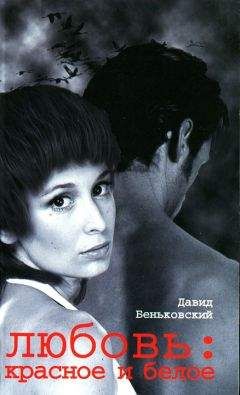Давид Самойлов - Перебирая наши даты
Так смотрел мой отец на перемену веры. И, наверное, взгляд его на это правильный. А о перемене веры много будет говорено ниже. Но главный, по — моему, в вопросе о выкрестах был момент национальный. Наряду с заданным понятием о Боге было в нем задано и понятие о нации.
Сейчас о нации судят космополиты, которые вовсе ее отрицают, либо почвенники, для которых категория эта выше Бога и гуманизма — всего выше.
Отец не судил о нации, а просто к ней принадлежал.
Он принадлежал к нации, как к религии и к семье, то есть принимая эту принадлежность как главные постулаты своего существования. Он был не из тех, кто постулаты подвергает сомнению. Он твердо на них строил свое духовное здание. И вера, нация и семья были три главных камня, положенных в его основание.
О его вере я уже сказал. Скажу о его нации.
Евреи как нация явление уникальное. И это не требует доказательств. В России дореволюционной эта нация впервые за две тысячи лет обрела некое территориальное единство — черту оседлости. И оказалось, что в черте начала загнивать. Черта была не хуже других границ, не хуже, например, наших нынешних твердых границ. Но евреи, лет триста имея границу, ничего существенного не создали: ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни философии. Ничего. Где‑то внутри этой нации есть потребность перейти границы. И когда это невозможно, она загнивает, обращается в быт и деторождение — в сохранение рода для грядущих времен. Это, может, и неосознанно, но это так. Для грядущего царства духа плодятся еврейские мещане и ремесленники. Их главные опоры — Бог и чадолюбие.
Уникальная судьба еврейской нации порождает взгляд на уникальность всех перипетий этой судьбы. Существование и складывание российского еврейства внутри черты оседлости— как раз и конец этой уникальности.
В черте оседлости еврейская нация стала загнивать. Она была не хуже и не лучше других частей образующейся имперской нации — не грязнее поволжских инородцев, не суевернее русских крестьян, не фанатичнее староверов, не корыстнее городских мещан. И была фатальная перспектива загнить или подняться до уровня имперской нации, стать ее органической частью.
Разные нации по — разному ощущали эту необходимость в конце XIX века. Некоторые пассивно, некоторые с внутренним сопротивлением. Евреи ощущали это активно, в чем, может быть, сказывались особенности их полуправного положения, а может быть, энергия, заложенная в национальном характере. Это была эпоха перемешивания сословий, социальных укладов, экономических устройств и национальных элементов.
Русская нация переживала эпоху складывания в имперскую нацию, то есть утрату некоторых своих культурно — этнографических особенностей и приобретение качеств сверхнациональных. В этом явлении, может быть, одна из причин необычайного взлета русской культуры в начале нашего века.
До эпохи складывания России в имперскую нацию русских евреев как таковых не было. Их не было или почти не было в России. Русские евреи начали образовываться, когда отслужившим николаевским солдатам дано было право селиться в российских городах, когда образовательный ценз и принадлежность к гильдейскому купечеству позволили пересечь черту оседлости, когда все права фактически получили выкресты (а они появились тогда, когда на деле к исконному русскому населению стал подмешиваться еврейский элемент).
Процесс был возможен только в это время — пору складывания — ни раньше, ни позже.
И в русской нации в ее новом качестве сразу же проявился еврейский элемент — Рубинштейны, Левитан, Антокольский, а на поколение позже — плеяда критиков, литераторов, издателей, художников, юристов, музыкантов. А еще на поколение — Пастернак, Мандельштам.
Из черты оседлости выпускались лишь интеллигенты или те, кто в перспективе порождал интеллигентов. Так еврейский элемент, изначально, становился частью имперской интеллигенции.
По — своему — в легкости этого перехода сыграло роль исконно русское воспринятое понятие о народе как о крестьянстве, устаревшее уже понятие. С этой точки зрения еврейского народа не существовало. Тем легче было воспитанникам русской идеи уйти от полународа к народу.
А тоска по народу — крестьянину была. Это я знаю по отцу. Когда‑то в николаевскую пору была попытка посадить евреев на землю, попытка неудавшаяся, остатки ее — лишь немногочисленные сельские колонии в Таврии, но именно в ту пору часть евреев приписана была к сельским обществам.
Отец мой по документам — не мещанин, не купец, а крестьянин некоего (позабыл уже, какого) земледельческого общества.
И хоть к земле его родные имели не больше отношения, чем любой из жителей маленького полусельского городка, отец с удовольствием вспоминал свое именно крестьянское сословие. Наибольшее уважение испытывал он именно к крестьянскому труду Любил домашних животных, особенно тех, с которыми имел дело с детства, — лошадей, коров, собак и домашнюю птицу.
Эта тоска по основе нации — крестьянству, может быть, основа почвенничества Левитана.
Я однажды спросил отца, какой партии он сочувствовал. Со смущенной улыбкой ответил:
— Эсерам.
Конечно, правым.
Процесс образования сверхнации, как и любой серьезный исторический процесс, дело трудное и мучительное. Если взять лишь одну сторону этого процесса — прирастание еврейской ветки к основному стволу формирующейся сверхнации— и то приживание было болезненным, трудным, мучительным для обеих сторон и, вместе с тем, с где‑то ощутимой целью, с обновлением и освежением и ветки, и ствола.
И все‑таки великое историческое преобразование происходило, давало свои результаты. Революция, обнажившая и обострившая все стороны русской жизни, по — своему перекроила и этот важнейший момент в жизни нации, катализировала процесс, революционизировала его, перевела из стадии эволюции в стадию катаклизма.
Показателем того, как далеко зашло формирование сверхнации в предреволюционной России, является та легкость, с какой масса во время революции отказалась от русской традиции и обычая, от церкви и от социального устройства, восприняв как будто и завезенную из Европы идею интернационализма. Идея эта вовсе не была внешней, как теперь полагают многие, она отражала нечто, уже происшедшее в самом фундаменте русского сознания, которое в эпохи исторических катаклизмов всегда отступало в сферу самообороны, самовыделения, ухода в сбережение традиции, веры, уклада. А тут — все наоборот. Как будто чувство самосохранения покинуло русскую нацию.
Безжалостная ломка всего (о безжалостности ее пришлось потом много пожалеть) была русским диким способом первого самоощущения себя сверхнацией.