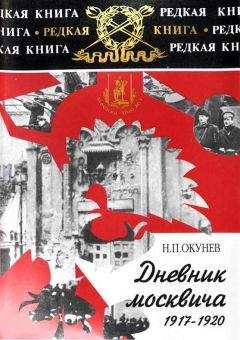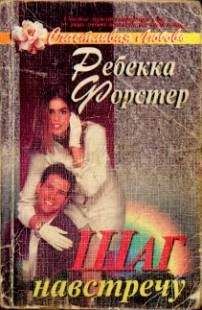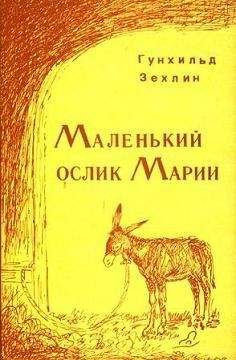Сергей Трубецкой - Минувшее
Между политическими убеждениями моего отца и моими не было глубокого и идейного противоположения «отцов и детей», но разница в оттенках была часто очень существенная. Если убеждения моего отца, как и мои, можно было охарактеризовать двумя словами — «умеренный либерализм», то у Папа ударение безусловно ставилось на «либерализм», у меня же — на «умеренный». Папа был в политике более идеологом, я же, по молодости лет не могший участвовать в политической работе, был, как ни странно, более реалистом. В дальнейшем между моим отцом и мною было коренное несогласие в оценке политики Столыпина. Папа был его горячим противником, я же был его сторонником. Поколения здесь как бы поменялись ролями: Папа «юношески увлекался», я же, как будто, был «охлажден жизненным опытом». Странного здесь, по существу, ничего не было. Я говорил уже, что природа Папа была чрезвычайно талантлива и он был одарен во всех отношениях, кроме как в практическом. Так как политика относится прежде всего к практике, то тут у Папа, думается мне, часто недоставало чувства реальности. Мне невольно вспоминается то, что он писал о своей матери (моей Бабушке) и ее способности к «экзальтации», над которой нежно подтрунивал Дедушка. Как и его мать, Папа имел склонность пропускать действительность через призму своего поэтического воображения. В реальной политике это не всегда давало хорошие результаты... Поскольку же политика должна быть освещенной идеей, Папа был в своей области.
У Папа не хватало практического «государственного чутья», но его острый ум и широкое образование позднее открывали ему самому его ошибки, сделанные под влиянием чувства или «идеологии». В общем, политика совсем не была сферой Папа, но он считал своим долгом ею заниматься и бросался в нее с самоотвержением, потому что горел патриотизмом. Папа был полной противоположностью тех отвлеченных философов, которые, как Гегель, спокойно писали философские трактаты под гром Иенских пушек, разрушавших их отечество... Чтобы понять и оценить Папа в этом отношении, надо прочувствовать то, что он вдохновенно писал в «Из прошлаго» о своем брате, дяде Сереже Трубецком. Я часто критиковал частности политической деятельности Папа, но если бы он мог от нее совсем отказаться в такое критическое для России время, Папа не был бы тем, чем он был, и светлый образ его был бы не так ярок!
В области политики я как-то избежал увлечения отвлеченными формулами, чем в 1905 году и позже столь многие пленялись в России и к которым была так особенно падка молодежь того времени. Я уверен, что память меня не обманывает и правильно рисует мне мои тогдашние настроения. Отвлеченное доктринерство 1-й Государственной Думы, где собрался «цвет русской интеллигенции», меня чрезвычайно раздражало. В па мять у меня с того времени врезались прекрасные слова Н. Н. Львова, произнесенные им с думской трибуны: «Бойтесь, господа, самого худшего деспотизма — деспотизма голых формул и отвлеченных построений!»
Это были слова «вопиющего в пустыне»! Мне чрезвычайно понравилась тогда прекрасная речь Н. Н. Львова, он выразил то, что я смутно чувствовал.
В начале этого столетия русский государственный механизм (в очень многом оклеветанный) оказался не на высоте положения: японская война и последующие революционные потрясения свидетельствуют, что он провалился на трудном государственном экзамена. Но провалилась на этом экзамене и наша самовлюбленная и захваленная «прогрессивная общественность». Провалилась она потому, что в ней не оказалось государственного смысла и она жила лишь «голыми формулами» и «отвлеченными построениями». Среди представителей государственной власти нашлись люди — на первом месте Столыпин,—которые поняли, что государственный механизм России нуждается в серьезной перестройке; они поняли, что бюрократический строй отжил и что надо призвать к государственному строительству и русское общество; они поняли, что многое в России надо перестроить, но что для этого не надо всего ломать... Попытка осуществить эту государственную реформу при сотрудничестве лучших элементов русской общественности — а Столыпин честно стремился это сделать — сама по себе говорит в ихпользу.
Напротив, представители «прогрессивной русской общественности» не поняли, что благо России требует от них работать рука об руку с этими представителями власти. Они не поняли, что сложный государственный механизм должен быть осторожно перестроен, но отнюдь не сломан... Провал «прогрессивной общественности» на государственном экзамене был полный.
Но это было бы еще полбеды, если бы наша «прогрессивная общественность» осознала свои ошибки и готовилась бы к возможной переэкзаменовке. Но нет! Уверенная в своей непогрешимости, «она ничего не забыла и ничему не научилась»!
Настала трагическая переэкзаменовка 1917 года. Условия были несравненно труднее, чем в 1905 году. Можно ли удивляться результату?!
Когда мне приходилось переживать тяжелые неудачи и поражения России, мне служило облегчением сознание, что горе это переживается не мною одним, а всеми русскими людьми, и в этом единении я чувствовал залог лучших дней.
Я помню, напротив, чувство тупого, беспросветного ужаса, который охватил меня при первом известии о «великой, бескровной» революции 1917 года. Вокруг меня были только радостные лица... Люди эти наивно верили, что над Россией «занимается светлая заря»... Я никогда не испытывал такого чувства духовного одиночества и отчаяния, как тогда. Даже большевицкий переворот я пережил легче: тогда я был уже окружен единомышленниками...
Я говорил выше, что революция 1905 года повлияла на быстроту моего умственного созревания, но она оставила и другой глубокий след в моей душе — след разрушения.
Я описывал патриархальную, идиллическую обстановку нашего детства в деревне. Дедушка Щербатов, в имениях которого мы проводили лето, был, как я говорил, проникнут сознанием, что и после уничтожения крепостного права он — «отец своих крестьян». Но, с другой стороны, он не сомневался в том, что и крестьяне считают себя «его детьми». «Мы — Ваши, Вы — наши!» — эта старинная крестьянская формула звучала для его слуха без малейшей фальши.
Я рос в этой атмосфере; она казалась мне, следовательно, совершенно естественной. Да я и видел людей, «по-старинному» преданных Дедушке, например тех старых кучеров, Никиту и Гурьяна, о которых я рассказывал, да и не их одних. Я уверен, что преданы они были действительно, и не за страх, а за совесть...
Все же, насколько я помню, уже в детстве яркие краски этой патриархальной идиллии несколько поблекли в моих глазах. Я продолжал верить, что «хорошие» мужики относятся к господам, как это полагалось по схеме Дедушки, но я начал замечать, что есть и «дурные» мужики и что они даже не единичное исключение... Как бы то ни было, до конца японской войны и 1905 года патриархальная идиллия — «мы — Ваши, Вы — наши», если и потускнела, все же продолжала жить в моем сердце.