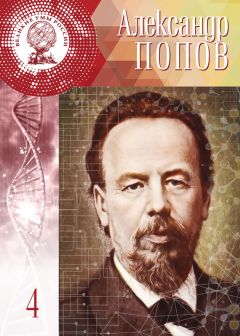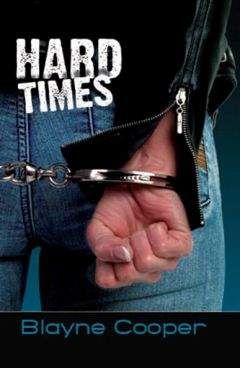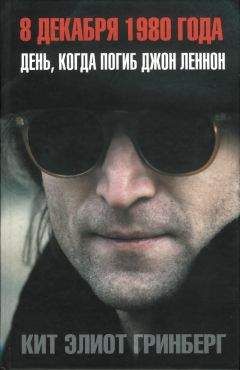Сельма Лагерлёф - Морбакка
“О да”, — отвечал он, все так же хмуро. Он действительно этого хочет, и ей давно бы пора понять.
Тут лицо ее залилось краской, и она сказала, что если не спрашивала об этом раньше, то лишь по одной причине: она твердо верит, что они предназначены друг для друга.
С неприятным смешком он поинтересовался, что она имеет в виду.
Лиса Майя покраснела еще гуще и в кратких словах рассказала, как приготовила в новогоднюю ночь сонный блинчик, как во сне увидела его и его батюшку и что его батюшка ей сказал.
Полковой писарь отложил вилку и нож и с удивлением воззрился на нее.
“Ну, это ты, поди, задним числом сочинила”, — сказал он.
“Можешь спросить у Майи Персдоттер, как я тотчас узнала тебя и сказала, кто ты таков, когда ты еще из саней вылезти не успел, в самый первый раз, когда ты приехал сюда купить сена”, — ответила мамзель Лиса Майя и повернулась к экономке, которая ставила на стол еду.
“Но почему ты раньше никогда об этом не говорила?”
“Думаю, ты сам понимаешь. Не хотела я привязывать тебя ничем, кроме собственной твоей охоты”.
Он опять замолчал, хотя было видно, что услышанное сильно его взволновало.
“Можешь мне описать, как выглядел тот человек, что назвался пробстом Лагерлёфом из Арвики?”
“Конечно”, — ответила она и рассказала, как тот выглядел. И, должно быть, все в точности совпало, так как сын был настолько ошеломлен, что вскочил из-за стола.
“Батюшка-то мой умер в тот год, когда ты родилась на свет! — воскликнул он. — Хотя ты вполне могла слышать о нем”.
“Я никогда не видела никакого Лагерлёфа и до того сна слыхом не слыхала ни о тебе, ни о твоем батюшке, — сказала мамзель Лиса Майя. — Спроси у Майи Персдоттер, вот же она тут, рядом, спроси, слыхала ли она, как я много раз таким образом описывала твоего батюшку!”
Тут полковой писарь остановился прямо перед нею. “Если б я только мог поверить!” Он опять прошелся по комнате. Опять остановился перед нею. “Ведь это означает, что мой дорогой батюшка предназначил тебя мне”.
Что ответила ему мамзель Лиса Майя, старая экономка так и не узнала, она смекнула, что ей пора уходить.
После этого полковой писарь и мамзель Лиса Майя несколько часов говорили друг с другом, а на следующий день помирились и тою же осенью сыграли свадьбу.
Позднее мамзель Лиса Майя сказывала экономке, что помехой были всего-навсего его меланхолия да причуды. То он думал, что несправедливо обидит покойную невесту, то вспоминал брата Элуфа и думал, что негоже ему быть счастливым, коли брат по его милости так несчастен.
Но этот сон стал ему твердой, прочной опорою, и он набрался смелости сделать то, чего желал более всего на свете.
А как только женился, сразу стал другим человеком. В первые годы его порой одолевала-таки меланхолия, но мало-помалу он успокоился, стал ровен характером. Через год после того, как в Морбакке сыграли свадьбу, брат его утонул, и полковой писарь долго горевал, однако ж и это миновало, прошло.
Он и старая хозяйка прожили вместе сорок шесть лет, и последние три десятка лет все невзгоды остались позади, и не было на свете более счастливой пары.
■
А дети лежали в кроватках, слушали, удивлялись и одновременно от всего сердца радовались, ведь до сих пор дедушка казался им этаким деревянным идолом, теперь же стал живым человеком.
Ополченцы
В 1810 году, когда бабушка, отцова маменька, уже несколько лет была замужем и имела детишек, сидела она как-то вечером у восточного окошка в комнатке подле кухни. Смеркалось, заниматься шитьем слишком темно, а поскольку уже близился к концу март и сальные свечки были на исходе, она взялась вязать чулки, так как со спицами управлялась и в полной темноте.
Некоторое время она усердно вязала и вдруг почувствовала неодолимую потребность поднять голову и глянуть в окно. Посмотрела — и глазам своим не поверила. Вот только что было тихо и ясно, а теперь — сплошная снежная круговерть. Снег падал так густо, что она с трудом различала отблески огня в окошке людской прямо напротив. Ветер задувал с такой силой, что снег громко шуршал по стенам, и за короткое время, что она сидела у окна, намело высоченные сугробы, в которых утонули кусты и штакетники.
С началом ненастья сделалось гораздо темнее, но все-таки она сумела разглядеть, как по сугробам промчались на задворки усадьбы несколько крупных животных. И сразу поняла, кто это. “Служанкам надобно остерегаться, не стоит им ходить за дровами, — подумала она, — серые хищники вышли нынче на охоту”.
И едва подумала, как услыхала крик и увидела, что мимо окна прочь со двора грузно пробежал волк. В пасти у него, отчаянно стараясь вырваться, трепыхалась добыча. Ей показалось, это ребенок, но откуда он тут? Собственные ее малютки — вот они, рядом с нею, а других ребятишек в усадьбе нет.
Следом за первым волком мелькнул второй, тоже с ребенком в пасти.
Больше бабушка не могла усидеть у окна. Встала, да так стремительно, что стул опрокинулся, бегом бросилась на кухню, а оттуда к черному ходу и на улицу. И замерла на пороге. Стоял ясный, тихий, погожий вешний вечер. Ни тебе метели, ни волков. Наверно, она задремала над вязанием и все увиденное было не иначе, как сном.
Однако бабушка смекнула, что за всем этим кроется что-то серьезное.
— Надобно хорошенько присматривать за ребятишками, — наказала она слугам. — Не сон это был, а предостережение.
Но с детьми ничего опасного не происходило, они благополучно подрастали, и видение, или сон, или что уж это было, мало-помалу отступало в забвение, подобно многим таким вещам.
К концу августа заявилась в Морбакку целая ватага оборванных солдат. Грязные, голодные, хворые, тощие как скелеты, глаза жадные, ровно у хищных зверей. И все словно бы отмечены смертью.
Они рассказали, что родом из фрюкенского края и других приходов на севере озерной долины. И что теперь вблизи от родных мест им вовсе не радостно, напротив, даже страшно, что близкие их не узнают. Два года назад они, здоровые и полные сил, ушли из дому. Что скажут родные, коли они вернутся в этаком плачевном состоянии — как говорится, краше в гроб кладут?
Воевать не воевали, только ходили туда-сюда, терпя голод и холод. Баталий никаких не видали, сражались лишь с болезнями да с небрежением.
На первых порах, когда выступили в поход, было их много тысяч, но эти тысячи гибли одна за другой. Они рассказывали, как несчетное их число посадили на весла в открытых лодках — в бурном море посреди зимы. Как прошла переправа, никто не ведал, но когда лодки пристали к берегу, все гребцы были мертвы, заледенели, замерзли до смерти.