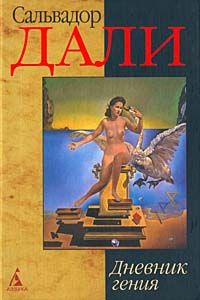Сальвадор Дали - Дневник одного гения
Произнося свою пылкую речь pro domo[12], в защиту себя и дел своих, я несколько раз опускался на колени, правда, вовсе не потому, что умолял их меня не исключать, как потом ошибочно утверждали, — совсем наоборот, я просто взывал к Бретону, пытаясь заставить его понять, что моя гитлеровская мания есть явление чисто параноидное и по природе своей абсолютно аполитично. Я пробовал объяснить им и то, что просто не могу быть нацистом хотя бы по той причине, что, если Гитлеру случится завоевать Европу, он не преминет воспользоваться этим, чтобы уморить там всех истериков вроде меня, как это уже сделали в Германии, где к ним относятся как к каким-нибудь дегенератам. Наконец, та женственность и неотразимая порочность, с которыми ассоциируется у меня образ Гитлера, послужат нацистам вполне достаточным основанием, чтобы обвинить меня в кощунстве. К тому же всем известно, как фанатично преклоняюсь я перед Фрейдом и Эйнштейном, а ведь оба они изгнаны Гитлером из Германии, а это достаточно убедительно показывает, что этот последний может интересовать меня лишь как объект моего патологического наваждения, да еще потому, что он представляется мне личностью, обладающей совершенно несравненной катастрофической доблестью.
В конце концов все поверили в полную мою невиновность, однако мне все-таки пришлось подписать некий документ, где я, помимо всего прочего, заверял, что не являюсь врагом пролетариата. Должен сказать, я подписал это с легким сердцем, так как никогда не питал к пролетариату никаких особых чувств — ни симпатии, ни тем более антипатии.
Но правда, единая и неделимая, вдруг сверкнула передо мной, ясная, как божий день: невозможно оставаться настоящим сюрреалистом, если принадлежишь к группе, которой управляют чьи-то политические пристрастия, будь то в литературе или в живописи, вокруг Арагона или вокруг Бретона.
Не могло еще существовать на земле человека, который бы, подобно мне, претендовал на роль истинного безумца, живого и организованного с чисто пифагорейской точностью в самом ницшеанском смысле этого слова. Но вот случилось то, чему суждено было случиться, — явился Дали. Сюрреалист до мозга костей, движимый «ницшеанской волей к власти», он провозгласил неограниченную свободу от какого бы то ни было эстетического или морального принуждения и заявил, что можно идти до конца, до самых крайних, экстремальных пределов в любом творческом эксперименте, не заботясь ни о какой последовательности или преемственности. Я потребовал права отрастить Ленину трехметровые ягодицы, приправить его портрет студнем из гитлеризма, а если потребуется, то и нафаршировать все это римским католицизмом. Каждый волен быть сам и давать возможность стать другим тем, чем им заблагорассудится, во всех своих проявлениях и отправлениях, кишечных расстройствах и фосфенных галлюцинациях — хоть моралистом, хоть аскетом, хоть педерастом или копрофагом[13]. Полиморфная порочность моих отроческих лет достигла истерического зенита: мои челюсти жадно перемалывали Галý, я влюбился в смердящих ослов, источавших запредельно трансцендентальный запах аммиака. И, конечно, священными, как литургия, стали для меня запахи человеческого тела. Люди считали зазорным портить воздух или предаваться анальным наслаждениям — никаких задниц, пусть даже сухих и чистых! — воротили нос они и от своих как попало скрюченных, свернутых в запутанные петли внутренностей. И над всем этим возвышались огромные, отечные, изможденные физиономии важных, знатных Мастурбаторов, смешно облепленных своей придворной саранчой с мордами коммунистов, с наполеоновскими брюшками и гитлеровскими бабьими ляжками, которая так и норовила залезть мне в глотку. А ведь все еще только начиналось!
Но Бретон посмел сказать «нет» самому Дали! И если разобраться, он даже был по-своему прав — просто во всем этом хаосе он пытался оставить за собой право выбора между злом или добром, злом и добром…
И все-таки он в чем-то ошибался — ведь, даже сохраняя за собой свободу выбора, надо было заставить себя свыкнуться и полюбить эти экзотические, смачные далианские плоды. В чем он совершенно заблуждался, так это в том, что полагал, будто Дали, рационалист до мозга костей, хочет до конца познать Иррациональное, дабы извлечь оттуда некий новый человеческий материал, расширить литературный репертуар — на самом же деле все было совсем наоборот: Дали желал одержать победу над Иррациональным, чтобы ограничить его власть и подчинить своей воле. Философские челюсти Дали, словно мощный циклотрон, жаждали растереть все в порошок, разложить на мельчайшие частицы, подвергнуть артиллерийской бомбардировке своих внутриатомных нейтронов, дабы превратить этот привидевшийся ему в сюрреалистическом сне презренный биологический конгломерат из внутренностей и азотных соединений в чистую мистическую энергию. И едва лишь это кишащее гнилостными бактериями, разлагающееся существо обретет наконец свою полную и окончательную одухотворенность, исполнится смысл и предназначение человека на земле — и все обратится в сокровище.
Этот-то момент и выбрала Киркгардская сирена, чтобы, прикинувшись сладкоголосым соловьем, пропеть свою похабную, пакостную песню. И тут все крысы сточных канав экзистенциализма, которые совокуплялись по погребам, пережидая оккупацию, накинулись, изрыгая ругательства и визжа от отвращения, на еще дымящиеся объедки сюрреалистического пира, и они, как в помойках, застывали в их утробах. Все было отменно гнусно, но всего отвратительней был сам человек!
Нет! — вскричал тут Дали. — Еще не все потеряно. Надо просто призвать на помощь разум и посмотреть на вещи рационально. И тогда все наши плотские страхи можно возвысить и облагородить непостижимой красотой смерти, встав на путь, ведущий к духовному совершенству и аскетизму. Эту миссию мог выполнить лишь один-единственный Испанец, уже давший миру самые дьявольские и страшные открытия, которые когда-либо знала история. На сей раз он призван был подчинить их своей воле, изобрести их метафизическую геометрию.
Надо было возвратиться к благородному достоинству цвета окиси серебра и оливкового, которыми пользовались Веласкес и Сурбаран, к реализму и мистицизму, которые, как выяснилось, были сходны и неотделимы друг от друга. Надо было трансцендентную реальность высшего порядка включить в какой-нибудь взятый наугад, случайный фрагмент настоящей, реальной действительности — той, которую через абсолютный диктат зримого запечатлел некогда Веласкес. Однако все это уже само по себе предполагает неоспоримое существование Бога, ведь он-то и есть действительность наивысшего порядка!