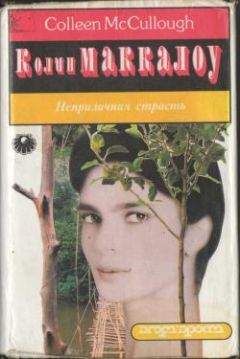Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
«Своим появлением в „Новом времени“ он плюнул себе в лицо. Ни одна кошка во всем мире не издевалась так над мышью, как Буренин издевался над Ясинским и… и что же? Всякому безобразию есть свое приличие, а посему на месте Ясинского я не показывал бы носа не только в „Новое время“, но даже на Малую Итальянскую» (где помещалась редакция этой газеты. — К. Ч.).
Или вспомним его многолетние отношения с Сувориным. Суворин в ту пору был и сила и власть: издатель самой распространенной в России газеты, человек с огромными связями и притом колоссально богатый. Чехов сошелся с ним, как с самым близким товарищем. Конечно, и враги, и псевдодрузья, и завистники стали упорно твердить, что он извлекает из дружбы с Сувориным множество всяких — главным образом денежных — выгод, ибо в ту пору уже никто не дружил с Сувориным бескорыстно.
Людям, не знавшим Чехова, эта клевета казалась похожей на правду, так как Суворин любил меценатствовать. У Суворина всегда был открыт кошелек для писателей, якшавшихся с ним. Уйму денег перебрали у него Маслов, Скальковский, Ясинский, Гиппиус, князь Барятинский, Мережковский, Потапенко… Одному Амфитеатрову он в короткое время дал не меньше восемнадцати тысяч. И потому казалось вероятным, что его любимейший сотрудник, самый близкий к нему человек, тоже пользуется его тароватостью.
Никто не знал тогда и никто не поверил бы, что все невыгоды этой пагубной дружбы Чехов взвалил на себя, а все выгоды предоставил Суворину. Еще в самом начале их близости Суворин, видя, как Чехов нуждается в деньгах, предложил ему щедрый аванс, но Чехов, чтобы раз навсегда пресечь подобные поползновения Суворина, написал ему такие щепетильные строки:
«Скажу Вам откровенно и между нами: когда я начинал работать в „Новом времени“, то почувствовал себя в Калифорнии… и дал себе слово писать возможно чаще, чтобы получать больше, — в этом нет ничего дурного; но когда я поближе познакомился с Вами и когда Вы стали для меня своим человеком, мнительность моя стала на дыбы, и работа в газете, сопряженная с получкой гонорара, потеряла для меня свою настоящую цену… я стал бояться, чтобы наши отношения не были омрачены чьей-нибудь мыслью, что Вы нужны мне как издатель, а не как человек…»
Казалось бы, ситуация довольно обычная: гордый бедняк, оберегая духовную свою независимость, не желает пользоваться благодеяниями богатого друга. Но не прошло и трех лет, как эти денежные отношения гордого бедняка к богачу приняли парадоксальный, почти невероятный характер. Оказалось, что не Чехов пользуется щедротами своего богатого друга, как об этом упорно злословили в тогдашних газетно-журнальных кругах, а, напротив, богатый друг все больше и больше денег извлекает из дружбы с Чеховым.
Около двенадцати лет Суворин был почти монопольным издателем чеховских книг. Едва ли он стремился в данном случае к какой-нибудь чрезмерной наживе, но самый аппарат его издательской фирмы был поставлен так хищнически, что за все те годы, когда она печатала «Каштанку», «Хмурых людей», «Мужиков», «Детвору» и т. д., Чехов, по самым умеренным выкладкам, получил вдвое меньше того, что мог бы получить у другого издателя, особенно если принять во внимание, что Суворин, по своей всегдашней расхлябанности, издавал книги спустя рукава и с такими большими антрактами, которые были сущим разорением для автора.
В конце концов это стало ясно и Чехову, но он предпочел оставаться меценатом Суворина, лишь бы Суворин не сделался его меценатом. Эта дружба, кроме огромных моральных убытков (так как газета Суворина в то время стала откровенно реакционной газетой), принесла Чехову тяжкий материальный ущерб. Зато когда дружба распалась, он мог с удовлетворением сказать, что в той атмосфере рабьего подхалимства, карьеризма и местничества, которая тогда окружала Суворина, ему, Чехову, единственному удалось сохранить до конца свое человеческое достоинство.
Такая же свобода от рабьих инстинктов — во всех его поступках, всегда.
Была у него незнакомая родня на Урале, и, когда проездом через Екатеринбург он захотел познакомиться с нею, обнаружилось, что все это — самодовольные и чванные люди. Тогда он написал своей сестре:
«Прасковью Параменовну, Настасью Тихоновну, Собакия Семеныча и Матвея Сортирыча видеть я не буду».
И наотрез отказался от всякого с ними знакомства.
«Чехов был человек гордый», — вспоминает о нем театральный критик А. Кугель, с которым, по его же словам, автор «Чайки» не желал разговаривать, так как Кугель считался «грозою театров» и перед ним трепетали актеры и авторы пьес.
Такой же гордости требовал Чехов от всех.
«Зачем, зачем Морозов Савва пускает к себе аристократов? — возмущался он в одном позднем письме. — Ведь они наедятся, а потом… хохочут над ним, как над якутом. Я бы этих скотов палкой гнал».
К смирению и кротости он был совершенно не склонен. В том-то и заключалось редкое своеобразие его гармонического духовного облика, что, воспитав в себе беспредельную снисходительность к людям, он никогда не доводил ее до подобострастия, самоуничижения и кроткой уступчивости. Ибо чувство человеческого достоинства, добытое им с таким трудом, всегда было регулятором его поведения.
Каких только надо не было в том нравственном кодексе, которому он подчинил свою жизнь! Одна из его ранних анонимных статей заключает в себе требование «искренне радоваться всякому чужому успеху, так как всякий даже маленький успех есть уже шаг к счастью и к правде».
И вся его биография свидетельствует, что он ни разу не уклонился от этого почти неисполнимого правила: действительно приучил себя радоваться всякому чужому успеху.
И вот два замечательных надо, которые он тотчас же после своей сахалинской поездки предъявил к себе с особенной требовательностью:
«Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится».
VIIИ было бы, конечно, очень странно, если бы, воспитывая себя, этот человек не пытался перевоспитать и других. Воспитывать всех окружающих было его излюбленным делом, причем он с удивительным простосердечием верил в педагогическую силу наставлений и проповедей, или, как он выражался, «нотаций».
«Судьба сделала меня нянькою, и я volens nolens должен не забывать о педагогических мерах».
Даже флиртуя с красавицей Ликой, он среди всяких уморительных шуток и вздоров пишет ей такую нотацию:
«У Вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому-то Вы больны, киснете и ревете, и потому-то все вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошовые уроки… В другой раз не злите меня Вашей ленью и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться. Где речь идет о срочной работе и о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их».