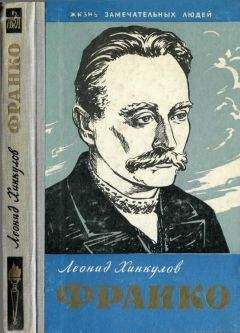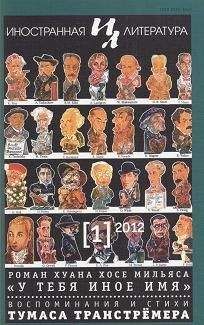Франко Дзеффирелли - Автобиография
Правда, и среди них встречались исключения, например, человек, которого партизаны называли Сила, невысокого роста, со светлыми волосами и серыми глазами. Он тоже был командиром, но, в отличие от других, разговаривал всегда вежливо. Силе было чуть больше тридцати, но он уже успел стать легендой. Его настоящее имя — Алиджи Бардуччи, он родился в рабочей семье во Флоренции, успешно учился на бухгалтера, но в 1939 году его призвали в армию «черных рубашек», и он отличился на югославском фронте. А затем из ревностного фашиста Сила превратился в последовательного коммуниста. Как «обращенный», он имел более широкие политические взгляды, не такие категорические и сектантские, как остальные. На самом деле под всей идеологией скрывалась любовь к родине и приверженность великим идеалам справедливости и свободы, не чуждым и многим фашистам.
Партизаны стали расспрашивать нас, кто мы и каковы наши политические взгляды. Я рассказал про монахов, про отца Койро и профессора Ла Пира, но это только усилило их недоверие. Мы решили уйти в партизаны, веря в те же идеалы, что и Сила, но с первой минуты поняли, что попали к убежденным сталинистам.
Вскоре после нашего появления в отряде мы встретили пленных англичан и американцев, которые бежали из немецких лагерей и присоединились к партизанам. Поскольку я владел английским, их поселили в нашу палатку, но при этом велели не очень-то с ними откровенничать. Наши командиры-коммунисты, за исключением Силы, не доверяли союзникам, и я очень хорошо запомнил, как один из них говорил: «Вот покончим с Гитлером, а потом разберемся и с ними. Грязные капиталисты, весь мир думают купить за свои доллары». У меня мурашки по спине побежали, профессор Ла Пира об этом и говорил. И впрямь, что ли, фашисты и коммунисты — одно и то же? Стало быть, и среди фашистов есть приличные люди вроде коммуниста Силы. При каждом удобном случае мы выказывали сбежавшим военнопленным свою благодарность и солидарность.
Условия жизни в горах не были легкими, особенно в ноябре. Но в городе они были ненамного лучше. Наш отряд стоял на покрытой темным сосновым бором горе Морелло над Флоренцией. Разумеется, немцы знали о партизанах, но им хватало проблем с союзниками, которые заняли Неаполь и двигались вверх по полуострову. Однажды мы все-таки совершили роковую ошибку. Моя группа жила в лесу в одной из первых палаток. С нами были два американских летчика, бежавшие из лагеря военнопленных в Рифреди. Стоял погожий ноябрьский день. Мы чистили оружие и разжигали костер, чтобы приготовить поесть. Вдруг снизу, с каменистой тропки, до нас донеслись веселые голоса, и мы заметили двух молодых немецких солдат, которые вышли прогуляться. Должно быть, они решили провести день в горах, не подозревая об опасности. Мы немедленно затушили огонь и спрятались с оружием в руках.
До сих пор помню улыбающиеся лица этих немецких пареньков, которые приближались к нам и пели. Увидев нас, они не остановились, возможно, решили, что мы тоже просто гуляем по лесу, один из них поднял руку в знак приветствия. Я хорошо его разглядел: голубые глаза и светлые, коротко подстриженные волосы. Очень быстро они поняли свою ошибку, но уже прозвучал сигнал тревоги, и партизаны бросились к ним со всех сторон. Немцы пустились бежать вниз по склону горы, но было слишком поздно. Они упали, изрешеченные выстрелами. Издалека я увидел искаженное болью лицо светловолосого, его затухающие глаза. Он был как мы. Партизаны сразу же похоронили их среди камней. Мы смотрели, замерев от ужаса. Старый партизан грубо сказал: «А вы что хотели? Чтобы они вернулись с эсэсовцами?» Убитым вывернули карманы — документы, мелочь, несколько фотографий родных, друзей и их самих, улыбающихся, не подозревающих о подстерегавшей их трагедии. Партизаны сожгли все — следы оставлять было нельзя.
На другой день из соседней деревни пришел священник узнать, не известно ли нам что-нибудь о двух пропавших солдатах. Он был очень встревожен.
— Ко мне приходили немцы, — сказал он. — Надеюсь, они живы, иначе всем придется худо.
Один из командиров с каменным лицом ответил, что мы никого не видели и ничегошеньки не знаем.
— Верно, ребята?
Все уверенно закивали. Священник смотрел на нас умоляющими глазами и все не мог решить, как поступить.
— Понимаете, я не могу вернуться к немцам и сказать, что не нашел их ребят. Я обещал сделать все, чтобы вернуть их. Они хотели прийти сюда и поджечь лес, но я сказал, что тут кругом полно крестьянских домов и я попробую что-нибудь сделать. А теперь мои надежды рухнули.
Он двинулся было назад, но вдруг остановился и резко спросил:
— Где вы их похоронили? — Мы оцепенели. — Не бойтесь, дайте мне хоть панихиду отслужить. — Он вынул из кармана все необходимое для панихиды и остановился, держа в руке маленькое кропило. — По воскресеньям они всегда приходили в церковь. Они были добрыми христианами, мы не можем обойтись с ними, как со скотиной, только потому, что они уже умерли.
Мы не в силах были пошевельнуться, даже у самых крепких комок стоял в горле. Наконец один из людей Силы, ни слова не говоря, пошел к кустам, где была могила, и пока священник служил панихиду, он кратко приказал быстро свернуть лагерь. Плакали все. Мы молились вместе со священником. Потом он благословил нас и ушел по тропинке вниз.
Теперь наш путь лежал к горной цепи на северо-востоке от Флоренции, рядом с горой Фальтерона, откуда берет начало река Арно. По пути нам предстояло пересечь магистраль, соединяющую Флоренцию с Болоньей и идущую дальше в сторону Германии. Это была главная дорога, по которой шли немецкие войска и все снабжение, дорога на Бреннеро. С нами были два американца, один англичанин и семь поляков, и наш отряд окрестили «иностранный легион».
Поляки бежали из концлагеря на равнине. Им удалось украсть у немцев двух лошадей, и это придавало им вид рыцарей из сказки. Когда они пришли, мы решили, что они тепло одеты, в свитера с высоким воротом и рабочие куртки, но они тряслись от холода. Они говорили только по-польски, и нам приходилось общаться с одним из них, Збышеком, знавшим немного французский. По его просьбе поляки расстегнули куртки, и мы увидели, что вместо свитеров у них лишь куски шерсти на шее и запястье, а все тело голое. Поляки ненавидели немцев больше, чем все остальные. Когда они бросались на врагов, в них закипала вековая ненависть.
В горах они оказались очень полезными, но их пристрастие к доброму вину, которое у нас можно найти везде, было чрезмерным. Это было их проклятием — они вечно были пьяны. Как-то раз двое из них спустились в деревню выпить и, когда пьяные возвращались назад и орали песни, их убили. Еще одному удалось затащить в постель крестьянскую девушку, но ее братья прознали об этом и расправились с ним на месте. За поляками невозможно было уследить, но при этом их отличали необыкновенная отвага и бесстрашие. Той зимой все они погибли, один за другим. В живых остался только Збышек. У меня сохранились кое-какие документы ребят, которые я после войны отослал генералу Андерсу, главе польского правительства в изгнании, с отчетом об их подвигах. Дружба со Збышеком продолжалась до его отъезда. Много лет спустя в Риме я услышал от одного поляка, что он был на подозрении как немецкий шпион. Трудно в это поверить, но из всех выжил только он один. Это бросило тень на наших «любимых безумцев», которых я часто вспоминал, и на сами воспоминания о них. Вообще-то есть даже старая пословица: «Поляк, если хороший, то хороший, а если плохой, то плохой».