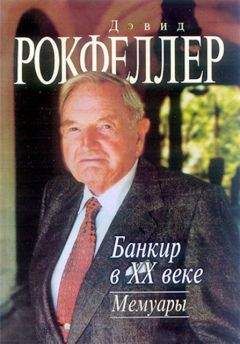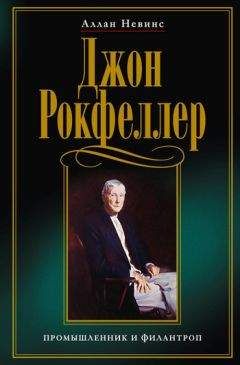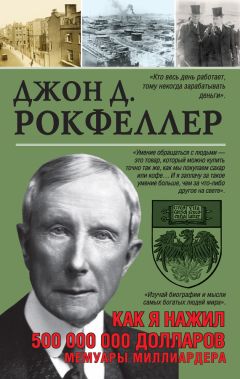Владимир Войнович - Дело № 34840
– Нет, не сообщили.
– А откуда ж вы знаете?
– Мне одна женщина сказала.
– Какая женщина?
– Которая там работает.
– А как ее фамилия?
– А зачем вам это знать?
– Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам.
– Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите.
– Нам самим неудобно звонить. Знаете, сразу пойдет слух, что вами интересуется КГБ.
– У вас там есть свои люди, вот вы им и позвоните.
– Какие свои люди? – изумляется невинный Захаров.
– Ну есть. Один, – говорит Петров, как бы выдавливая из себя признание.
– Вот у этого одного и спросите.
– Это тоже неудобно, он может разболтать.
– Ну, я думаю, вы как разведчики уж куда-куда, а в Литфонд проникнуть сумеете.
Тут я посмотрел на Захарова и заметил, что он неестественно держит руки, вытянув их вперед и сжав кулаки. Глянув на его руки, я увидел, что предмет, вначале принятый мной за брелок, вывалился у Захарова из рукава и болтается, как мне показалось, на двух проводах.
– А это что? Микрофон? – спросил я и протянул руку, чтобы микрофон этот вырвать, но Захаров руку успел отдернуть, а с Петровым (внимание!) случилось что-то неожиданное. Он впал вдруг в какое-то странное состояние, захрипел, задергался, стал быстро и часто кивать головой и бормотать:
– Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно, мы с вами откровенно…
И так много раз. Я от неожиданности напрягся, смотрел на него, а он все бормотал одно и то же: «Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно», вдруг завращал глазами, словно гоголевский колдун из «Страшной мести», стал приподниматься, тянуть ко мне руки с ужасной гримасой, возникшей будто от нехватки дыхания, прохрипел: «Хочешь, я тебе расскажу про свою семью?»
И тут же обмяк и сел и стал, словно только проснувшись, приходить в себя.
– Не надо про семью, – сказал я, потрясенный только что увиденным. – Скажите мне лучше, кто вы такой?
– Ну, я начальник отдела, – сказал он уже совсем обыкновенным голосом.
– Ответственный сотрудник комитета, – добавил Захаров почтительно.
Я посмотрел на них обоих. Они сидели на своих местах, в той же комнате, ничего не изменилось. Как будто ничего и не было… Но что-то все-таки было. Я испытывал ощущение, словно я, или они, или я и они вместе побывали в каком-то ином измерении, а теперь вернулись и не можем вспомнить, о чем же шла речь до того.
О чем бы она ни шла, я вдруг понял, что наш разговор затянулся и никакого смысла не имеет.
– Ну так вот что, – сказал я решительно и намереваясь уйти. – Ни о какой откровенности нечего говорить. И не надо мне совать в нос микрофон.
– Да какая тебе… – Я посмотрел на него и хотел сказать, чтоб не тыкал, но он сам поправился, – вам разница, где микрофон – в рукаве или в стене. Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны.
В словах его был резон. Я ведь не сомневался, что меня записывают. Что ж, своего образа мыслей я не скрываю. (Я тогда и в самом деле считал своим долгом говорить всем попадавшимся на моем пути функционерам «правду в глаза», хотя толк от этого был такой, как если бы я то же самое говорил столбу. Потом я думал, что все мои старания говорить им правду были большой глупостью. Им, партийным, союзписательским, кагэбэшным функционерам, поощрявшим ложь, надо было врать в глаза во всех случаях и как можно больше, чтобы они в этой лжи потонули. При этом надо четко видеть и не переходить границу, где за ложью им начинается обман самого себя.)
Я остался (а интересно, что было бы, если б попробовал уйти?), и разговор наш продолжился.
Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод.
– Вот Дудинцев, например, – сказал Петров, – пишет так. У него к стене прибиты такие карманы. Напишет несколько листов – кладет в один карман. Напишет еще – кладет в другой. А вы не так пишете?
– Нет, – говорю, – я не так. Мой творческий метод состоит в том, что я свои листки прячу гораздо дальше. Так далеко, что, придя ко мне, вы ничего не найдете. После конфискации романа Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом.
На самом деле то, что я говорю – чистый блеф. Подпольщик из меня не получается, я никогда ничего не умел таить и, видимо, не научусь. Все мои рукописи лежат у меня на столе. Иногда я пытаюсь их куда-нибудь спрятать, но потом забываю куда. Иные куски отдаю на хранение знакомым. А потом забываю, что кому отдал. А поскольку и они тоже забывают, то, может быть, и сейчас клочья моих рукописей заросли паутиной у кого-нибудь под кроватью.
Петров вдруг, развернув кресло, садится лицом ко мне.
– Вот представьте себе, – говорит он. – Вы секретарь Союза писателей, а я писатель Петров.
– Представляю. Сейчас таких писателей очень много.
– Почему вы так говорите? – оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за Союз писателей.
Но Петров не обиделся.
– Вот вы узнали, что я, писатель Петров, печатаюсь в «Посеве». Вы меня вызываете к себе…
– Да не буду я вас вызывать. Печатайтесь, где хотите…
Между тем со мной происходит что-то необычное. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника, переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то не пытаюсь его прекратить. Петров пристально в меня вглядывается (для того, наверно, и развернулся), словно пытается что-то определить по моему виду. Но вот, может быть, определил, поставил кресло на место и опять ленивый разговор о том о сем и, в частности, о КГБ.
Многие к КГБ относятся с подозрением. Где что случится, валят на КГБ. Про Виктора Попкова тоже говорили, что его КГБ убил. Вы, конечно, слышали эту историю? Как? Про Попкова? Не слышали? Ну, как же, как же… Как убили художника Попкова не слышали? Вся западная пресса шумела (неужели вы пропустили?): чекисты убили левого художника (а он, между прочим, никакой не левый). И вот как будто чекисты его убили. А на самом деле как получилось? Попков пьяный ловил такси. Остановил машину, полез внутрь, а там инкассар, и тоже «под мухой». Он с перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда (Петров откинул голову и, косясь на меня с вожделенной улыбкой, показал пальцем на точку между подбородком и кадыком) и вышла (стал как бы вытягивать что-то невидимое из затылка) отсюда. А потом говорят – мы убили Попкова. Чуть что – и на нас. Мы убили. А это не мы (и стал мне при этом подмигивать: мы, мы, мы).
Речь зашла опять о ВААПе. Я сказал:
– Мне ваш ВААП не нужен. У меня есть свой адвокат, американец, который мои права достаточно хорошо (это я по незнанию сильно преувеличил) защищает.
– А у вас с вашим адвокатом постоянная связь? – поинтересовался Петров.