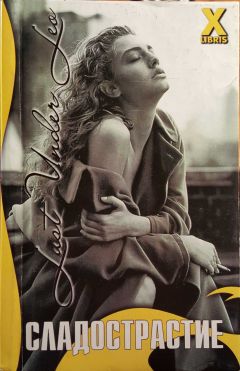Павел Анненков - Замечательное десятилетие. 1838–1848
Одна черта только в этом мире, так хорошо устроенном, беспрестанно кидалась в глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолепную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещение иностранных книг (в моденском герцогстве обладание книгой без цензурного штемпеля наказывалось ни более, ни менее, как каторгой), французская беспокойная струя сочилась под всей почвой политического здания Италии и разъедала его. Подземное существование ее не оставляло никакого сомнения даже в умах наименее любопытных и внимательных. Оно не было тайной и для австрийского правительства, которому оно беспрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временным, случайным правительством в предоставленных ему провинциях и умножать, для самосохранения, войско, бюджет, наблюдения, мероприятия и т. д.
В марте 1841 года я уже был в Риме, поселился близ Гоголя и видел папу Григория XVI действующим во всех многочисленных спектаклях римской святой недели и притом действующим как-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную домашнюю работу. В промежутках облачения и потом обрядов он, казалось, всего более заботился о себе, сморкался, откашливался и скучным взором обводил толпу сослужащих и любопытных. Старый монах этот точно так же управлял и доставшимся ему государством, как церковной службой: сонно и бесстрастно переполнил он тюрьмы Папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободе, а преступниками, которые не могли ужиться с монастырской дисциплиной, с деспотической и вместе лицемерно-добродушной системой его управления. Зато уже Рим и превратился в город археологов, нумизматов, историков от мала до велика. Всякий, кто успевал продраться до него благополучно сквозь сеть различного рода негодяев и мошенников, его окружавшую, и отыскать в нем наконец спокойный угол, превращался тотчас же в художника, библиофила, искателя редкостей. Я видел наших отдыхающих откупщиков, старых степенных помещиков, офицеров от Дюссо, зараженных археологией, толкующих о памятниках, камеях, Рафаэлях, перемешивающих свои восторги возгласами об удивительно глубоком небе Италии и о скуке, которая под ним безгранично царствует, что много заставляло смеяться Гоголя и Иванова: по вечерам они часто рассказывали курьезные анекдоты из своей многолетней практики с русскими туристами. К удивлению, я заметил, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, по-видимому успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи и поставить себе опережающие ее задачи. Намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него так невозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрогивал.
У Иванова доля убеждения в той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менее, но, как часто случается с людьми глубоко аскетической природы, искушения и сомнения жили у него рядом со всеми верованиями его. Он никогда не выходил из тревог совести. Можно даже сказать про этого замечательного человека, что все самые горячие попытки его выразить на деле в творчестве свои верования и убеждения рождались у него так же точно из мучительной потребности подавить во что бы то ни стало волновавшие его сомнения. И не всегда удавалось ему это. Притом же, наоборот с Гоголем, он питал затаенную неуверенность к себе, к своему суждению, к своей подготовке для решения занимавших его вопросов и потому с радостию и благодарностию опирался на Гоголя при возникающих беспрестанно затруднениях своей мысли, не будучи, однако же, в состоянии умиротворить ее вполне и с этой поддержкой. Вот почему при неожиданно возникшем диспуте нашем с Гоголем за обедом, у «Фальконе», о Франции (а диспуты о Франции возникали тогда поминутно в каждом городе, семействе и дружеском кругу), Иванов слушал аргументы обеих сторон с напряженным вниманием, но не сказал ни слова. Не знаю, как отразилось на нем наше словопрение и чью сторону он втайне держал тогда. Дня через два он встретил меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую фразу, сказанную мною в жару разговора: «Итак, батюшка, Франция – очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Он еще думал о разговоре, между тем как Гоголь, добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом (он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно выбранный в лавочке, встретившейся по дороге из «Фальконе»), забыл и думать о том, что такое говорилось час тому назад.
Надо сказать, что прения по поводу Франции и ее судеб раздавались во всех углах Европы тогда, да и гораздо позднее, вплоть до 1848 года. Вероятно, они происходили в то же время и там, далеко, в нашем отечестве, потому что с этих пор симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет. Но и при этом следует заметить, что русская интеллигенция полюбила несовременную, действительную Францию, а какую-то другую – Францию прошлого, с примесью будущего, то есть идеальную, воображаемую, фантастическую Францию, о чем говорю далее.
XIV
Чем более приходилось мне узнавать Париж, куда я попал наконец в ноябре 1841 года, тем сильнее убеждался, что повода для зависти соседей он действительно заключает в себе очень много благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературе и прочему, но причин для суеверного страха перед его именем он содержит весьма мало. Я застал Париж волею или неволею подчиненным строго конституционному порядку; правда, что этого никто не хотел видеть, а видели только опасности, представляемые народным характером французов, забывая притом коренное отличие конституционного режима, состоящее в его способности мешать развитию дурных национальных сторон и наклонностей. Еще очень много было людей, считавших даже это средство спасать народы от заблуждений и увлечений опаснее самого зла, которое оно призвано целить.
После популярного воинственного Тьера управление Францией принял на себя англоман по убеждениям Гизо{61}, который в ненависти и презрении к самодеятельности и измышлениям народных масс и их вожаков совершенно сходился с королем, хотя оба они были обязаны именно этим массам и вожакам своим возвышением. Оба они были также и замечательные мыслители в разных родах: король – как скептик, много видевший на своем веку и потому не полагавшийся на одну силу принципов без соответственного подкрепления их разными другими негласными способами; министр его – как бывший профессор, привыкший установлять основные начала, им самим и открытые, и верить в их непогрешимость. Из соединения этих двух доктринеров противоположного рода возникла особая система конституционного правления, старавшаяся водворить в стране переворотов мудрствующую, резонирующую и себя проверяющую свободу. Система располагала множеством приманок для энергических людей, которым нужно было составить себе имя, положение, карьеру, – но беспощадно относилась к тем, которые не признавали ее призвания водворить порядок в умах и ее учение о важности правительственных сфер и строгой иерархической подчиненности. Доброй части французов, однако же, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить без всякой надежды на успех какой-либо внезапной политической импровизации, какого-либо отчаянного и счастливого покушения (соuр-de-tete), которые, сказать мимоходом, все подавлялись с особенной энергией и скоростью министерством Гизо в течение восьми лет, – жить так значило, по собственным словам партизанов непосредственной народной деятельности, обречь себя на позор перед потомством. Партии истощались в усилиях подорвать министерство, и в 1848 году совершенно случайным образом опрокинули его, но уже вместе с конституционной монархией.
Говоря правду, им действительно не за что было любить это министерство. Его «мещанская» честность и стыдливость мешали ему лакомить Францию фразами о ее призвании побеждать народы, к вящему их преуспеянию, и воспрещали также разделять восторги толпы к недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, как временем доблестей и славы. Оно вдобавок неустанно обличало пустоту и ничтожество народных идеалов, проектов революционного обновления государства и различных укоренившихся догматов народного самолюбия и тщеславия. Вся эта добропорядочность поведения не могла сделать, конечно, правления Гизо популярным в его отечестве{62}. Да он и не гнался за популярностию, презирая ее столько же, сколько и героев, вознесенных клубами и партиями, и рассчитывая единственно на поддержку деловой, степенной части населения, которая в нужную минуту ему, однако же, позорно изменила, как известно. Взамен популярности, он искал почетного имени в истории и думал его найти вместе со своим старым королем, сделав из Франции свободное и благочинное государство, водворяя в нем конституционные нравы, работая неусыпно за обузданием крайних политических страстей – и все это под перекрестным огнем печати, которая, несмотря на пресловутые сентябрьские законы, пользовалась при нем свободой, не имевшей себе подобия на континенте, за исключением маленькой Бельгии и некоторых кантонов Швейцарии. Притом же каждый день Гизо приносил свою систему на публичное обсуждение в тогдашние почти постоянно бурные заседания палаты депутатов, где он часто достигал до героизма в откровенности и до цинизма в ответах врагам. Впоследствии вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституционный фундамент для страны, нагло объявлена была, при второй империи, презренной игрой в парламентаризм и заменена игрой полицейских агентов на улицах, скандальной журналистикой в печати и законодательным корпусом в четырех глухих стенах, без прав трибуны и без гласности!