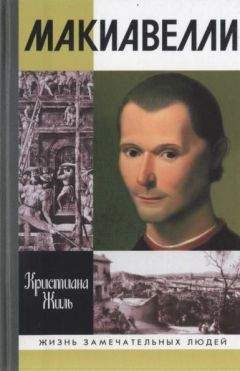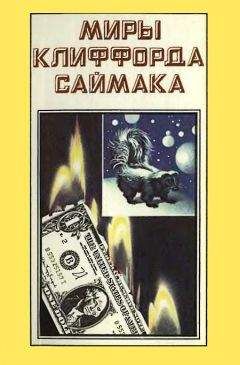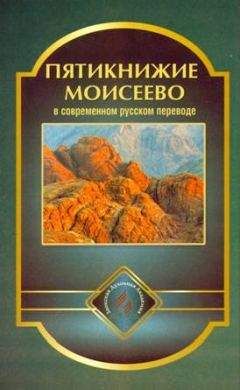Габриэль Марсель - Присутствие и бессмертие. Избранные работы
Однако, это – только лишь начало. И теперь следовало бы показать, что именно в мире обладания, или имения (de l’avoir), противоположность между образом и самой вещью (res ipsa) выступает с максимально мертвящей силой. Чем более исчезнувшая вещь переживается как моя, чем выше у меня требование считать ее лишь моей, тем сильнее я акцентирую факт ее исчезновения. Вещи больше здесь нет. Возникает глубокое напряжение между реальностью и субъективностью: я хочу сказать, что реальность пропажи вещи тем мучительнее переживается, чем больше я с нею сжился, чем с большей страстностью я приписывал ее себе. И боль в данном случае выступает как ущерб в прямом и точном смысле этого слова. Я страдаю из-за себя и в себе самом. Но страдание, как и сама любовь, имеет и другой свой полюс, поскольку оно есть страдание из-за другого, за него (for his own sake)[51].
Здесь, возможно, уместно заметить, что чем в большей степени исчезнувшее существо действительно мыслится как бытие (но что это действительно означает?), тем в меньшей мере оно схватывается как владение и тем, следовательно, меньше его исчезновение будет ощущаться как потеря. [Надо сказать, что, к несчастью, все наши привязанности являются по своему характеру отношениями владения, что чудовищным образом ограничивает практическую значимость подобного наблюдения.]
Прежде чем пойти дальше, я отмечаю еще раз, что на этом уровне определяющей является внутренняя установка, глубоко отзывающаяся на том, что мы, впрочем, ошибочно называем самим объектом; такая установка вовсе не является несущественной, как это справедливо для вещей, пассивно следующих законам своей судьбы. Таким образом, я могу на законном основании предполагать, по крайней мере в принципе, что моя установка по отношению к тому, кого больше нет, воздействует на него (поскольку он находится со мной в такой связи, которая носит конститутивный характер и не является внешней в том случае, если другой действительно был со мной). Он, следовательно, не безразличен к тому, что я гипнотизирую себя по отношению к нему как к утраченному владению. Тем самым я его в действительности предаю. [Я хочу сказать, что я прекращаю думать о нем как о бытии и склоняюсь к тому, чтобы рассматривать его как объект.] Однако у предательства есть своя диалектика. Я могу полагать, что я предаю другого, отделяя свою мысль о нем от его последнего состояния, например, от пыток, пережитых им прежде, чем умереть. И тогда я позволяю околдовать себя идеей, что подобное отделение лежит в основе безразличия. Однако лишь благодаря любви к другому я освобождаюсь от такого наваждения, именно ради него я обязан отказаться от того, чтобы превращать его в неподвижный образ, отрицая его как бытие и жизнь.
Мне ясно, что я искажаю все, смешивая бытие-существо (l’être) с воспоминаниями о нем и толкуя их при этом как неких идолов или, если угодно, как реликвии, относя к ним мое поклонение по отношению к этому существу. В данном случае, как и всегда, имеется трансцендентный разрыв, который должен сохраняться. Что же это за трансценденция?
Мне представляется, что чем больше существо признавалось мною в своем качестве существа-бытия, тем в меньшей степени оно в действительности смешивается с его детализированными образами, которые обстоятельства позволили мне сохранить от него; тем более я на самом деле должен был признавать его ценность, то есть нечто такое, что может проявиться лишь в опыте, но бесконечно эти проявления превосходит. Я сказал «ценность», но выражаясь иначе, можно было бы сказать «сущность». Во всяком случае уместным в данном случае является воздержание от объективирования. Напомним, что речь здесь идет о жизни отношения. Нам интересно знать, что собой представляла эта связь меня с другим, каково, так сказать, ее строение. [Сегодня я склонен подчеркнуть со всей силой момент доверия, предоставленного мною другому, то есть надежду, одушевлявшую мое отношение к нему и устремленную всегда к более тесному общению.]
Можно, по-видимому, предположить, что личная боль, связанная с подобным исчезновением, выступает как необходимый момент, который я должен победить (наподобие того, как надежда побеждает отчаяние или, более точно, искушение отчаянием). Впрочем, я должен остеречься от установления здесь ложных связей. Эта боль не есть действительность того, что я назвал «я», поскольку она не скрывает внутри себя никакого намерения; но верно то, что боль эта является существенным образом телесной; поскольку мы – телесные существа, мы не можем и даже не должны желать, чтобы были недоступны для такой боли. В этом, я полагаю, состоит единственное подлинное основание для высшего соотношения между живущим и смертью. Короче говоря, я «ему» обязан тем, что он не оставляет меня в этом наваждении, в котором я склонен похоронить нас обоих. Все это происходит таким образом, как если бы другой мог бы победить такое наваждение лишь при условии, что я его преодолею первый. Но еще раз я должен сказать, что я могу его сам победить лишь любовью к этому утраченному мною существу. И в таком чувстве нет ничего общего с эгоизмом того, кто стремится подрастрясти свою печаль, то есть развлечься. Другой присутствует в том акте, посредством которого я освобождаюсь не от него, а от идола, которым я его заместил, иммобилизировав при этом его самого.
Но здесь мы еще раз сталкиваемся с проблемой самости (ipséité). Что я хочу сказать – и каким образом я могу быть уверен в своем праве? – когда утверждаю, что «это он», что это именно он присутствует в данном акте? Здесь следовало бы показать, что несмотря ни на что мы остаемся очарованными идеей коммуникации физического плана, идеи нити, связывающей два пункта. Вопрос: «Это он сам лично?» – предстает перед нами в форме: «Это он на другом конце провода?», или еще так: «А это не кто-то другой?», или: «А может быть, никого нет, в конце концов, но вещи происходят таким образом, как если бы кто-то был?» И здесь, по ходу дела, я отмечаю еще одну мысль, которая мне часто приходила в голову: наша изобретательность кажется призванной снабжать нас метафорами все более и более точными, предназначенными быть нашими помощниками, когда мы хотим понять то, что на самом деле превосходит любую метафору, любую мыслимую технику. И проблема самости в действительности неотделима от другого вопроса, при формулировке которого в ясных терминах мы испытываем затруднение. Мы спрашиваем: «Есть там кто-то? Кто там?». Но что это означает: быть там? «Бытие-там» нельзя отделить от «другого места», откуда можно прийти; «быть лично» (le «en personne») нельзя отделить от идеи возможного делегирования: он пришел не сам, но послал кого-то другого вместо себя. Возражение, выдвигаемое определенным видом здравого смысла против всех этих разысканий, долженствующих, конечно же, сопровождать всякое серьезное исследование спиритизма, состоит в том, что он нигде не находится, потому что его совсем больше нет. Но такому «реализму» надо ответить, что он, о котором я тревожно вопрошаю, то есть существо, призываемое мною, неотлучное присутствие которого для меня необходимо, «он», который в действительности есть «ты», не должен смешиваться с «он», являющимся не более чем вещью, разрушенной, разложившейся. Опыт, вокруг которого вращается здесь наша мысль, может быть выражен лишь словами «это – ты», «вот ты», «ты ли это на самом деле?», и такой опыт, несмотря на все кажимости, располагается вне того мира, к которому принадлежит все то, что может рассматриваться как вещь.
Лё Пёк, 23 января 1943 г.Первые заметки к предложенному мне в Лионе изучению феномена отцовства
Отцовство как рубрика. Отцовство как основание для своего рода восторженности: «Я – отец!..» Гордость.
С одной стороны, усыновление, с другой – прекращение прав усыновления должны быть приняты во внимание для того, чтобы показать, насколько невозможно свести отцовство к биологической категории и, однако, оно принадлежит к миру плоти. Усыновление – это прививка.
Что значит порождать? Различие между давать и производить. Вот благодаря чему можно понять несводимость отцовства к виду причинности.
Лё Пёк, 24 января 1943 г.Симметрия точек зрения на зло и на смерть. В качестве моего конечного пункта смерть не несет с собой потустороннего мира и не может быть трансцендирована. Но как таковая она смешивается со злом. Смерть мыслимая противопоставляется смерти ощущаемой, и первая, напротив, сходу трансцендируется, но здесь это означает – замалчивается. Требуется третья точка зрения или позиция – то же самое и для зла.
Пессимизм, приложимый к тому миру, в котором смерть понята как процесс; но как раз вовсе не как процесс смерть раскрывается в жертвоприношении.
Бессмертие мыслимо исключительно в том мире, в котором жертвоприношение не только возможно, но и действительным образом осуществлено. Переход от одного измерения к другому.