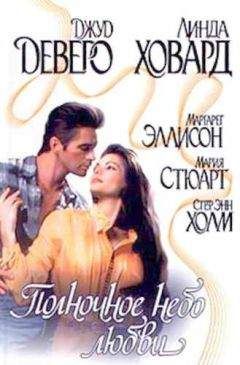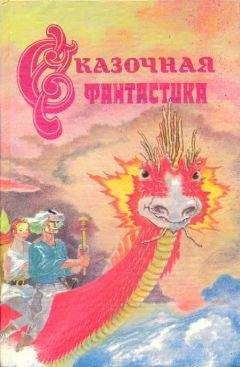Захар Прилепин - Леонид Леонов. "Игра его была огромна"
И некому было их возглавить, даже если бы они появились.
Но и смолчать Леонов тоже не мог себе позволить…
А какой ещё у него был выбор: кроме как высказаться?
Последние годы жизни Леонова вообще бедны на внешние события, по крайней мере видимые человеческому глазу.
Он всё реже выходил из дома, не ездил в Переделкино… Иногда подолгу ни с кем, кроме помощников, не встречался.
И днём и ночью думал о своём труде, как заточённый находясь внутри «Пирамиды».
Вскоре начались события необратимые и страшные.
Те, кто видел Леонова в августе 1991 года, помнят, как болезненно переживал он случившееся с его родиной.
Отдельная боль была о раздоре внутри славянских, ещё недавно братских народов.
— Как грешно и страшно материнскую ладанку рубить пополам на плахе… — сказал Леонов о бушующей Украине зашедшим к нему в гости Юрию Бондареву и Тимуру Пулатову.
События развивались так, что полный, окончательный распад государства и последующий хаос на территории бывшей России казался вполне реальным.
«Пирамида» выходит в свет
Если бы не ухудшавшееся зрение, он писал бы сам. Силы были.
Одна из посетительниц Леонова запомнила писателя так: «Он был невысок, худощав, причёску носил короткую, под ёжика, хотя шевелюра его была великолепна — в девяносто один год не было и намека на мало-мальскую плешь; его верхнюю губу украшали шикарные усы, видом напоминавшие горьковские, и тут я особо должна сказать о глазах, терявших, к сожалению, свою ясность и выглядывавших из-под очков с толстыми стёклами. Они были очень тёмные, почти чёрные, умные и с едва уловимой язвительной усмешкой, и в то же время их окутывал налёт грусти человека, стоящего одной ногой в могиле. Вообще Леонид Максимович был бодр, держался молодцом и явно преувеличивал свою старческую немощь. Несмотря на жару, одет он был в тёмный костюм, из-под которого красовалась безупречной белизны накрахмаленная рубашка — в его подчёркнуто официальной манере держаться был какой-то лоск, какой отличает, ну, скажем, английских джентльменов…»
С самоиронией у него тоже всё было в порядке. Знакомый Леонова Владимир Стеценко предложил как-то в шутку Леонову работать с помощью бинокля — раз не видит текст.
— Ещё, говорят, хорошо старикам раствор цианистого калия помогает по утрам, натощак, — отреагировал Леонов и заливисто засмеялся.
Дочери Леонова не имели возможности ежедневно находиться при отце, чтобы записывать поправки в «Пирамиду», в итоге зашла речь о необходимости помощника.
Одним из первых, уже в начале девяностых, взялся помогать Леониду Максимовичу критик Михаил Лобанов.
Надо признать, что характер у Леонова был не из лёгких — его, с известной долей условности, можно назвать деспотическим. Он требовал безусловного подчинения, старательности и выдержки.
Далеко не все могли работать в леоновском ритме и беспрекословно подчиняться писателю. С тем же Лобановым они достаточно скоро рассорились (хотя уважение друг к другу сохранили).
Следующим помощником был Виктор Хрулёв.
«Работа начиналась в 9 утра, максимум в 9.30, — вспоминал он. — Писатель входил в отведённую для занятий комнату психологически подготовленным, „в полной форме“: при галстуке, в жилетке, здоровался и начинал с нетерпением диктовать то, что было продумано вечером и выверено после ночных сомнений. Диктовал чётко, называя все знаки препинания, лишь изредка меняя на ходу строчки. Ему нужно было освободить память от текста, чтобы взглянуть на него со стороны и двинуться дальше. В это время он был энергичен и предельно целеустремлён. Воля автора вела на штурм неизвестного и требовала ответной собранности и чуткости помощника. Творческое состояние нельзя было нарушать ни вопросом, ни лишним движением, ни шелестом бумаги. На редкие обращения близких отвечал однозначно: „Мы работаем. Не мешайте“.
Исчерпав подготовленную часть текста, Л. Леонов уходил к себе в кабинет продумать следующую страницу, затем возвращался с добавлениями и уточнениями. В обеденный перерыв работа прерывалась, потом писатель отдыхал час-полтора: за это время текст переписывался набело. Отдохнув, Л. Леонов возвращался с новым вариантом, и продолжалась правка текста, запись нового, переписывание последнего варианта».
«Поразительна не только тщательность работы над словом, — продолжал Хрулёв, — но и требование точности, которому автор неумолимо следовал в подготовке эпизодов. Приведу один пример. В начале „Пирамиды“ рассказывается о том, как кинорежиссёр Сорокин подвозит Дуню Лоскутову к её дому на машине и не может понять, что же манит его в этой простенькой девушке в плюшевой шубке. Сорокину чудится в ней некая тайна, которую он боится упустить, так как мог бы выгодно использовать в кино. И тут в его сознании возникает сравнение горечи её лица с горечью лиц на фреске „Вознесение Девы“ в Сиене, „где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля…“. После слова „фестиваля“ стоят три точки, означающие паузу, возвращающую разговор к внутреннему размышлению Сорокина.
Чтобы оставить фразу: „…где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля“, нужно было решить, успеет ли режиссёр из Венеции доехать до Сиены, побыть там час-два и затем вернуться обратно. Как он может туда добраться? На каком транспорте? Для разрешения этих вопросов обратились к малому атласу, но масштаб его был слишком крупным. Посмотрели другую книгу — и вновь остались сомнения; гарантии того, что герой успеет вовремя вернуться, не было. Наконец Л. Леонов приносит большой альбом — атлас на иностранном языке и просит просчитать сантиметровой линейкой расстояние и весь маршрут в Сиену и обратно.
Когда я заметил, что вряд ли стоит столь тщательно выверять расстояние (читатель и так поверит автору, тем более что в романе есть смещения времён года, пространства, много условности), Л. Леонов сказал: „Я не имею права обманывать читателя. Если я говорю, что Сорокин там побывал, я должен знать, как он туда доберётся, каким маршрутом вернётся. Я должен знать механику поездки. Тогда я буду чувствовать состояние своего героя…“».
Схожие воспоминания о работе с Леоновым оставили все его редакторы.
«К моему появлению в московской квартире Леонова, — вспоминал Вадим Десятников, — каркас романа был уже выстроен, начерно сшит, но отделка ещё продолжалась.
В работе Леонид Максимович вёл себя как диктатор. Подчёркивал: „Я работаю строго“. Самое удивительное, что, не имея возможности читать, он помнил из текста романа (более семидесяти печатных листов) чуть ли не каждую фразу, поворот мысли. И мучился оттого, что любое серьёзное изменение, а иногда и деталь влекли за собой новый крепёж и соседних, и дальних глав.