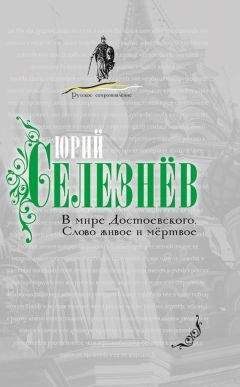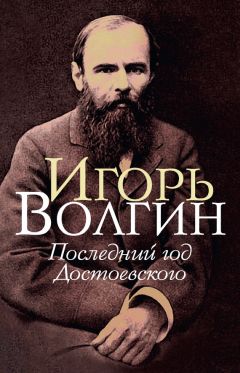Юрий Селезнев - Достоевский
Выгляньте ж из Петербурга — прорубите окно не в Европу уже, а наконец в Россию, — «и вам предстанет море-океан земли Русской, море необъятное и глубочайшее». А вы самым спокойным образом отрицаете его, принимаете его за нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. «А между тем море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга... и уже столь многое народом понято и осмыслено, что петербургские люди и не поверили бы... Но, чтоб избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представителях своих, сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию...»
Первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно оздоровить, — это, без сомнения, все тот же русский народ... Потому что даже и он уже духовно болен: не смертельно, но болен; «хотя главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока... Как она называется? Жажда правды, но — неутоленная. Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит...». А тут еще — в помощь этому поиску, что ли, затем ли, чтоб дать этой неутоленности свое направление? — «бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином». Но народ обеспокоен, «именно обеспокоен нравственно...».
— Я знаю, — читал он свое, недавно написанное, теперь готовящееся стать достоянием общества, — надо мной посмеются, и все-таки последнее мое слово в главном споре, споре между христианством и социализмом, будет такое: им необходимо соединиться во имя идеи русского социализма. «Вся глубокая ошибка социалистов, — писал он, — в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю... Я говорю про неустанную жажду в народе русском всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения...» И если нет еще этого единения, если не создалась еще такая церковь вполне, то сама идея всебратского единения все-таки живет, пусть даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего. Не в механических формах западных теорий «свободы и равенства» заключается социализм народа русского, но в свободном соединении всех для общего великого дела, во имя великой идеи. В духовной свободе и равенстве — идея «русского социализма», или, как он его называл еще, — «Христианского социализма»...
Но это идея будущего. А сейчас? Что делать сейчас?
«Позовите серые зипуны, — призывал он, — и спросите их сами об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду... Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню верую... И жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все это мечта?..»
Вот таково его слово. И теперь это будет уже окончательное его слово, с которым он уйдет, — он был почти уверен в этом. Он подписал корректуру, решил подремать — слишком уж устал и разволновался, читая дорогое, заветное, последнее...
И почему бы все это мечта? Ведь было же, было — его слово заставило обняться, объединиться даже недавних врагов, вызвало у них слезы раскаяния — пусть на мгновение, но все-таки все это было. А раз было — значит, и может быть вновь, и уже не на мгновение, а на века? И не было ли это мгновение только отблеском, только вспышкой озарения, прорывом из грядущего в настоящее.
— Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие, — попросил он. Анна Григорьевна давно уже привыкла к этому — когда на мужа накатывало сомнение, он открывал наугад то свое, заветное, «каторжное», Евангелие и читал первые строки, стараясь отыскать в них вечный ответ на мучающие его вопросы. Открылось Евангелие от Матфея: «Иоанн же удерживал его... Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».
— Ты слышишь: не удерживай — значит, я умру, — сказал он, закрывая книгу. Попрощался с детьми, жену попросил остаться рядом, шептал ей ласковые слова.
— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно...
Она расплакалась, чувство ничем не восполнимой, безысходной душевной сиротливости вдруг овладело ею, но она постаралась справиться с нахлынувшим, все еще заставляла верить себя в обещание профессоров и, видя, что муж устал, посоветовала ему поспать, не тревожить себя грустными мыслями, хотя и видела: переход в иной мир, к которому он готовился столь определенно, не страшит его. И он утих — то ли действительно уснул, то ли пребывал в состоянии полуяви, но что-то, видно, тревожило его: измученное как будто какою-то неразрешенной им мыслью, лицо его, казалось, словно прожжено изнутри огнем. Он, кажется, спал, но внутренняя работа мысли и души не затихала и во сне. Просыпался, смотрел угасающим взглядом на свое последнее прибежище в этом безжалостно ускользающем мире — на стол, за которым родились «Братья Карамазовы», «Дневник писателя»... Встретился с глазами Рафаэлевой Мадонны над ним.
Вот и пройден путь... И он вдруг явственно ощутил, что уже почти и не здесь, и не почувствовал ни страха, ни отчаяния — только тихую боль за остающихся. И младенец, Вечное дитё, глядел на него с картины, и он узнавал в его взгляде далекую, поразившую на всю жизнь его детское сердце — недетскую печаль той, вспомнившейся вдруг девочки, в парке божедомской больницы. И себя увидел снова, со стороны — бегущим от померещившегося волка, и материнскую улыбку мужика Марея, и чистые глаза своего первенца, Сонечки, и последнего — Алешеньки...
Вечное дитё, страдающее безвинно за все зло, что накопило человечество в мире.
Он слышал за дверью голоса — различил: Майков пришел — не забыл все-таки старый друг, несмотря на все недомолвки последних лет, и Паша, кажется, и еще чьи-то... Но уже не было сил открыть глаза поговорить... И снова приходили видения страшных грядущих потрясений, невиданных моровых язв духа и совести, паучьи усмешки будущих инквизиторов, страдания поколений, времена вседозволенности и безверия, преступлений без наказаний, но и сквозь все эти нечеловеческие, невыносимые сознанию увидевшего мытарства души не переставал видеться свет во мгле, и мгла не могла одолеть его, словно из дальних далей грядущего, возрожденного мира открывались взору простор и ширь, поля и леса, и дети — не среди каменных мешков, но среди садов и засеянных полей, и над ними — чистое, беспредельно высокое небо...