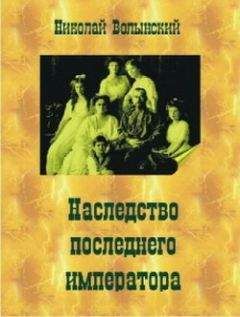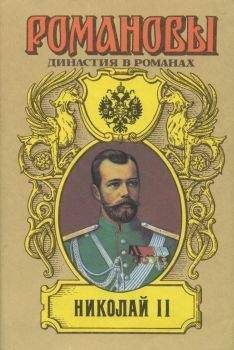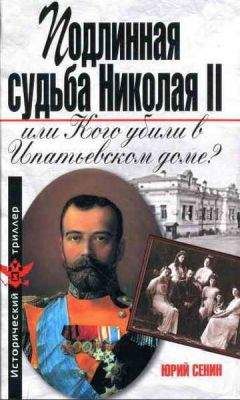Сергей Фирсов - Николай II
Летом 1918 года никто не мог знать, что большевики окажутся победителями в Гражданской войне и навяжут стране собственные ценностные ориентиры. Как же восприняли известие о казни царя его современники? Да и что это было за известие?
История эта давно и хорошо известна исследователям. 17 июля в 12 часов дня председатель ВЦИКа Я. М. Свердлов получил телеграмму из Екатеринбурга. В ней говорилось, что ввиду приближения к городу неприятеля и раскрытия большого заговора, имевшего целью похищение Николая II и его семьи, по постановлению президиума Областного совета царь расстрелян, а его близкие эвакуированы в надежное место. Екатеринбургские большевики по этому поводу выпустили специальное извещение. В тот же день, вечером, в Москве началось заседание президиума ВЦИКа, признавшее решение уральцев правильным. Предусматривалось составление заявления для печати. После девяти часов вечера из Екатеринбурга пришла шифровка, сообщавшая, что и семейство царя постигла участь его главы («официально семия погибнет при евакуации»)[128].
Три года спустя о расстреле узников дома Ипатьева расскажет председатель исполкома Екатеринбургского совета П. М. Быков, опубликовав статью «Последние дни последнего царя» и назвав совершенное исполнением воли революции («хотя при этом были нарушены многие формальные стороны буржуазного судопроизводства и не был соблюден традиционно-исторический церемониал казни „коронованных особ“»). В своей статье Быков глумливо заявлял, что таким образом власть рабочих и крестьян проявила «крайний демократизм», расстреляв царя «наравне с обыкновенным разбойником». Однако откровения революционера не встретили одобрения вышестоящих начальников: сборник с его признаниями вскоре изъяли из продажи. Руководители Советского государства желали представить случившееся по возможности «спокойно». Бывшие подданные последнего самодержца извещались о его казни, но не узнавали ее подробностей.
«С хамскими выкриками и похабствами, замазывая собственную тревогу, объявили, что РАССТРЕЛЯЛИ НИКОЛАЯ РОМАНОВА, — записала в дневнике З. Н. Гиппиус 6 июля 1918 года. — Будто бы уральский „совдеп“, с каким-то „тов[арищем] пятаковым“ во главе убил его 3-го числа (по старому стилю. — С. Ф.). Тут же, стараясь ликовать и бодриться, всю собственность Романовых объявили своей. „Жена и сын его в надежном месте“… воображаю!» Ей было не жаль «щупленького офицерика», но непереносимо было «отвратительное уродство всего этого». Возмущаясь расстрелом, Гиппиус не скорбела о том, кого расстреляли! Это был тревожный симптом, о многом говорящий. Захваченная революционным вихрем, страна спокойно восприняла бессудную расправу над тем, кто в течение более двадцати двух лет был ее правителем. Царя не жалели, вспоминая о том, как он был жалок, хотя попутно отмечали удивительное: теперь народ — цареубийца, а он (Николай II. — С. Ф.) мученик. Эти слова петроградского архивиста Г. А. Князева еще не раз повторят… потом. Повторят другие, чтившие память убиенного монарха.
Было ли известие об убийстве императора неожиданным? Для кого как. Граф В. Н. Коковцов писал, что уже перемещение царской семьи в Тобольск оценивал как начало страшного конца, а расправа — только вопрос времени. Однако на всех, кого в то время видел граф, сообщение большевистских газет произвело ошеломляющее впечатление. «Одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть народом, — отмечал В. Н. Коковцов, — эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал». Ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Усмешки, издевательства, комментарии сопровождали чтение этой газетной новости. «Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба кровожадностью. Самые отвратительные выражения: „давно бы так“, „ну-ка — поцарствую еще“, „крышка Николашке“, „эх, брат, Романов, доплясался“ — слышались кругом, от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка».
О том же и почти в таких же, что и В. Н. Коковцов, выражениях писала Марина Цветаева: «Стоим, ждем трамвая. Дождь. И мерзкий мальчишеский петушиный выкрик: „Расстрел Николая Романова!.. Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!“ Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая и тоже (тоже!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отворачивают глаза — куда? В пустоту»[129].
В пустоту… Гражданская война входила в силу, смерть стала восприниматься «народом» буднично, как нечто понятное и естественное. Большевики могли не волноваться: их призывы и лозунги о непримиримой борьбе с «эксплуататорами» усваивались быстро и прочно. О последствиях радующиеся гибели царя не задумывались, хотя предвидеть их было не столь трудно. Еще 29 октября 1917 года З. Н. Гиппиус, никогда не любившая и не уважавшая последнего самодержца, пророчески написала по поводу новых претендентов на власть в России:
Блевотина войны — октябрьское веселье!
От этого зловонного вина
Как было омерзительно твое похмелье,
О бедная, о грешная страна!
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил, засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты…
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь.
Хотела этого З. Н. Гиппиус или нет, но для русского человека на протяжении веков святыней были «вера, царь и Отечество». В 1917 году два первых слова оказались уничтоженными, заменить их было нечем. «Отечество», всегда мыслимое только в неразрывном единстве с «царем» и «верой», стало понятием абстрактным, лишенным своего метафизического звучания. Право сильного в подобных условиях и значило право Хама, о котором супруг поэтессы Д. Мережковский написал еще в 1906 году.
Откликнулась только Церковь, уничижаемая и растаптываемая борцами «за светлое будущее без Бога». 19 июля на Поместном соборе, проходившем в Москве, обсуждалось предложение о необходимости совершить панихиду «по убиенному рабу Божиему бывшему государю Николаю II». Присутствовавший на заседании князь Е. Н. Трубецкой напомнил, что екатеринбургское убийство совпало с днем памяти великомученика Московского митрополита Филиппа (Колычева), пострадавшего за правду при Иоанне Грозном. «Это совпадение, — заявил князь, — налагает на нас особый долг»: не скрывая правду и не заботясь о возможных последствиях, а осенив себя крестным знамением, совершить моление об упокоении души Николая II. В результате Собор принял решение о совершении панихиды.