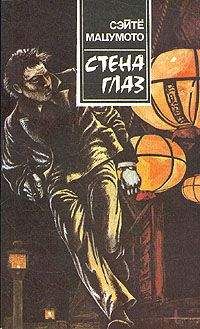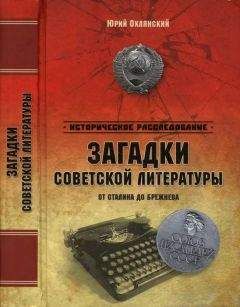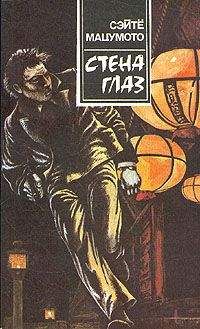Юрий Оклянский - Оставшиеся в тени
Он написал тогда об этом большое стихотворение, которое с присущей ему прямотой назвал — «Московский рабочий класс принимает великий Метрополитен 27 апреля 1935 года».
Там были полные молодого задора строки:
…Восемьдесят тысяч рабочих
Строили это метро, многие после рабочего дня,
Ночи напролет…
Москвичи видели, как юноши и девушки,
Смеясь, вылезали из штолен, гордо являя миру
Покрытые глиной, пропитанные потом
Рабочие куртки.
Все трудности —
Подземные реки, давление высоких домов.
Плывуны, — все это они победили. Они не жалели сил…
…И это чудесное сооружение
Увидело то, чего не видал вовеки
Ни один из его предшественников во всех городах мира:
Владельцев, которые были сами строителями.
Где же это видано было на свете, чтобы плоды труда
Достались тем, кто трудился? Где доселе бывало, чтобы рабочих
Не выгоняли из зданий,
Ими сооруженных?
Увидев, как они едут в вагонах.
Созданных их руками, мы поняли:
Вот это и есть то великое зрелище, которое некогда наши учители
Прозревали в дали времен.
Он не был большим любителем экскурсий, а пожить в СССР подольше, как бы того хотелось, все не хватало времени. Надо было возвращаться назад. Призывал четкий рабочий распорядок, рутина принятых на себя обязательств, которая все заставляет откладывать на потом и не дает осуществиться многим лучшим намерениям…
Да, не так часто удавалось ему бывать в этой стране, как бы того хотелось. Но для всей его жизни, для исходных толчков чувства и мысли за письменным столом, для ощущения главных опор бытия и преемственности бегущих дней ему необходимо было знать, что эта страна существует.
Это почти так же, как с матерью. Бродя по свету, в дальних краях, мы не всегда вспоминаем о ней, голова занята собственной суетой. Мы не часто проведываем ее, редко пишем. Не всегда даем себе труд задуматься, как она сейчас, что с нею, может быть, постарела, захворала, страдает от одиночества. Все это нам невдомек. Но попробуй случиться что-нибудь непоправимое — ого, как заболит сердце. Как изменятся сразу все жизненные измерения и чувства. Мать в нас самих, в каждой клеточке существа. Каждый — только частица своей матери.
Нет, никогда он не относил себя к безмысленным чадам, которые целиком вверяются родительской воле. Да и зрелый ум не дает ослеплять себя идеализациям, подмечая в знакомых чертах далеко не только одни возвышенные побуждения и помыслы. Все это так. Но от этого не теряется главное чувство — глубокой духовной связи с этой страной. Восхищения перед ее нечеловеческим упорством, фанатической верой, перед заветным желанием разом выпрыгнуть из вековой отсталости. Сделать одинаково счастливыми и равными уже сегодня или завтра почти двести миллионов разноплеменных и разноязыких людей.
Великий эксперимент России, начатый в 1917 году, «дал миру надежду» (так писал он в другом стихотворении, «Великий Октябрь»), породил во всех странах неисчислимых приверженцев. И одним из таких духовных сыновей Октября был и остается он, Бертольт Брехт.
Вот почему ему всегда было важно в любых формах и видах, любыми средствами поддерживать связи с этой страной…
К этим или подобным раздумьям Брехта, где преобладали тона то счастливо миновавшей опасности, то скрытой тревоги, в первые дни пребывания в Москве неизбежно должны были примешиваться свежие воспоминания о только что пережитых тяготах. Не будь их, подобный вечер настал бы значительно раньше.
Но даже трудно сказать, что отняло больше сил на пути сюда — преграды, создаваемые в недрах изобретательных дипломатических канцелярий, или собственная неуступчивость и вызванные ею нравственные испытания. Напряжения из-за незримой, изо дня в день, верности самому себе, обыденной стойкости в принципах труда и человеческих отношений, вопреки мятежу обстоятельств, несмотря ни на что. Во всяком случае последнее стоило не меньше!
В дневнике Брехт так описывает драматическую ситуацию, сложившуюся в Хельсинки с зимы 1940/41 года:
«В декабре 40 года нас уведомили из Стокгольма, что для меня, Хелли и детей выданы мексиканские въездные визы. Грета визы не получила. Телеграммы и прошения не имели последствий. Из США сообщили нам, что мы должны ехать, так как новое мексиканское правительство в любой день может аннулировать визы… Положение в Финляндии быстро становилось угрожающим… В стране множились немецкие моторизованные дивизии, Хельсинки были наводнены немецкими «туристами», напряжение между Германией и СССР возрастало…» (13.7.41).
А вот декабрьская запись, сделанная в тот самый момент, когда для другого на его месте, возможно, обозначилось бы начало размежевания судеб:
«У Греты высокая температура; так как в последнее время она много потеряла в весе, это вызывает озабоченность. Операция аппендицита весной могла активизировать туберкулез… Для нас прибыли визы из Мексики, которые ее не включают» (4.12.40).
Какой был выбор? Мексиканские визы, более досягаемые для немецких антифашистов, чем визы США, — экстренное средство выбраться из прифронтовой зоны — и без того потребовали немалых хлопот. Заполучить визы в США было куда сложнее. Но если уж иммиграционные власти заштатной Мексики чинили препятствия туберкулезнице, то пройти врачебный контроль на постоянный въезд в США, при тысяче и одной препоне, у М. Штеффин не было никаких шансов. Что оставалось делать?
Не надо обладать большим воображением, чтобы представить всю немую давящую опасность момента. Сколько продлится нынешнее состояние Греты? Сможет ли она вообще выдержать заокеанское путешествие? Неизвестно. Удастся ли в конце концов выпросить у мексиканцев въезд для нее? Или новое правительство Мексики с учетом международной ситуации начнет отбирать у европейских беженцев и выданные уже визы? Тогда все одинаково и равно очутятся у разбитого корыта! Начать ли все-таки хлопотать об американских визах? Но сколько еще продержится на весу мнимая безопасность в Финляндии, состояние, будто находишься на медленно погружающемся ко дну судне. Неделю, месяц, три? Во все пробоины и течи здешнего корабля устремляется зримая опасность — прибывают и прибывают в Хельсинки свои же соотечественники, с эсэсовской и вермахтовской формой в чемоданах и ранцах.
Он был официально лишен немецкого гражданства, а книги его под гиканье и клики остервенелых юнцов брошены рукой палача в общее пожарище. В списке «сжигаемых» он значился, кажется, под номером десять. Среди изгнанных литераторов он был, таким образом, врагом рейха и политическим преступником первой десятки. Хелли, Елена Вайгель, была актрисой такой же политической репутации, к тому же еврейкой… Нет, подозрительные субъекты, как видно, неспроста возникали иногда и вились под окнами их дома.