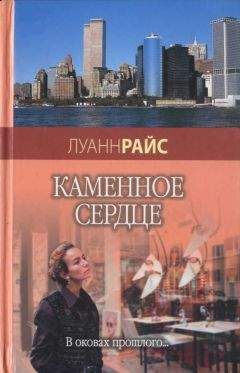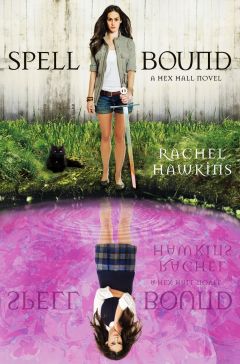Мария Белкина - Скрещение судеб
Ада хотя и старше Али, но крепче ее здоровьем. Она выносливей, практичней и лучше умеет устраиваться. Она сразу решает, что надо приобрести свою хибару (дом — это звучит слишком уж роскошно!), надо не зависеть от хозяев. Она просит сестру продать в Москве все ее вещи и выслать ей деньги. Получается две с чем-то тысячи, но их не хватает на покупку дома, а тут приходит новый перевод от Бориса Леонидовича, и, сложившись, Аля с Адой покупают на самом краю села, на улице Лыткина трехстенную развалюшку. Трехстенную, ибо четвертая стена — просто скала!
«…Это крохотный домик на самом берегу Енисея, комнатка и маленькая кухонька, три окошка, на юг, на восток и запад. Огород в три грядки и три елочки… таким образом я, в лучших условиях никогда не имевшая недвижимого имущества, вдруг здесь, на Севере, стала если не вполне домовладелицей, то хоть совладелицей. Впрочем, в недвижимости этого жилища я не вполне уверена, так как оно довольно близко от реки и при большом разливе, пожалуй, может превратиться в движимое имущество. Но до разлива еще целый год, и пока я вполне счастлива, что могу жить без соседей, без хозяев и тому подобных соглядатаев…»
Аля целиком отдается клубной работе, она даже увлечена этой работой и увлекает ею и местных жителей и поселенцев. Она устраивает вечера Маяковского, Пушкина. И выпускает клубную газету, где она оформитель, редактор, поэт одновременно. Она организует новогоднюю елку для детей и для взрослых, о которой в Туруханске и понятия не имели. Клеит бумажные украшения, как когда-то в детстве клеила с отцом и матерью, где-то там под Прагой, в Чехии.
В письмах она просит присылать ей цветную бумагу, краски, карандаши, портреты вождей, ужасно нужны портреты вождей — Туруханск даже ими обойден! Ей посылают просимое и Лиля, и Татьяна Сикорская. Вначале Аля переписывается с Сикорской, но потом у Сикорской возникают неприятности в Союзе писателей, и переписка ведется через ее молоденькую невестку Аллочку Белякову, тогда жену Вадима, того самого, который в Елабуге смотрел в кино «Грозу», когда Мур прибежал за ним и сказал, что Марина Ивановна повесилась… Аллочка писала Але и посылала ей бандероли с портретами вождей, с портретами писателей, со всем, что просила Аля.
Аля с утра уходила в клуб и возвращалась поздно вечером. Ноябрьские праздники, выборы, встреча Нового года, Первое мая… «В апреле, предмайском месяце, у меня будет очень много работы, а я загодя устала. Сердце у меня стало плохое, вместо того, чтобы подгонять — тормозит, я его постоянно чувствую, и одно это уже утомляет. Хорошо хоть, что я не задумываюсь ни о смерти, ни о лечении. Слава Богу, некогда. Без работы я, конечно, сошла бы с ума, а так — просто усыхаю и седею помаленьку, утешаю себя тем, что приобретаю окраску окружающей среды. Тут и звери-то белые: лайки, олени, песцы, горностаи…»
Але разрешили ставить спектакли, ссыльным это не дозволялось, но не было художественного руководителя и ей дозволили «в плане общественной нагрузки». Она втянула в эту работу, в буквальном смысле слова, — втянула в драмкружок такую инертную, ленивую, и такую нелюбознательную молодежь Туруханска. Писала декорации, делали все вместе бутафорию, шили, из чего пришлось, костюмы. Поставила два скетча. Понравилось. Взялась за Мольера «Лекарь поневоле». Но тут ребята категорически отказались играть в костюмах тех времен! Камзолы — еще куда ни шло, а вот короткие штаны, да чулки — ни за что! Засмеют потом, прохода не дадут! Предложили на выбор: «брюки штатские, военные, флотские и летние с голубой полосой — сапоги, ботинки, меховые унты или валенки. Мольер пошевелился в гробу, поднялась очередная пурга, но увы ребята пока что непреклонны…»
Вот так и идет жизнь Али: «без божества, без вдохновенья и без настоящего дела, несмотря на постоянную занятость и благодаря ей…»
«…И тоска здесь своя особенная, непохожая ни на московскую, ни на рязанскую, ни вообще на тоску средней полосы! Здесь тоска лезет из тайги, воет ветром по Енисею, исходит беспросветными осенними дождями, смотрит глазами ездовых собак, белых оленей, выпуклыми, карими, древне-греческими очами тощих коров. Здесь тоска у-у какая! Здесь тоска гудит на все пароходные лады, приземляется самолетами, прилетает и улетает гусями-лебедями. И не поет, как в России. Здесь народ без творчества, без сказок и напевов, немой, безвыходный, безысходный.
Но — тоска тоской, а забавного много. Например — заместитель председателя передового колхоза им. Ленина — шаман, настоящий, воинствующий, практикующий! Именно он и осуществляет «связь с массами» и, прочитав над ними соответствующие заклинания, мобилизует их на проведение очередного мероприятия вроде заключения соцдоговора о перевыполнении плана пушзаготовок…»
Она рождена была для творчества, Бог одарил ее. «Два дара: слово и карандаш (пока не кисть)», — писала о ней мать.
Она рисует, пытается рисовать, но у нее только ученические альбомчики с плохой бумагой и детская акварель! На большее денег нет, да и не достать здесь. Писать в стол, но она подследственная и в любой момент могут прийти с обыском и еще чего доброго арестовать. А «все спавшее во мне до того дня, когда можно будет проснуться, теперь определенно проснулось и бодрствует вхолостую, с полным сознанием безвозвратности каждого проходящего часа, дня, месяца…». И остаются ей только письма — это единственная возможность самовыражения, единственно осуществимая страсть к слову, потребность творить… И самолеты увозят туда на «Большую землю», в Москву письмо за письмом. И не подозревает Аля, что это отправляет она страницу за страницей свою книгу… И будет книга эта издана сперва за рубежом и переведена на чужие языки, и только потом, как это часто у нас случается, напечатают ее у нас в России. Но Аля об этом не узнает, она давно уже будет мертва…
«Мысленно я обращаюсь только к тебе, — пишет она Борису Леонидовичу. — Когда в какой-нибудь очень тихий час вдруг все лишнее уходит из души, остается только мудрое и главное, я говорю с той же доверчивой простотой, с которой отшельник разговаривает с Богом, ничуть не смущаясь его физическим отсутствием. Ты лучше из всех мне известных поэтов переложил несказанное на человеческий язык, и поэтому, когда мое «несказанное» перекипает и, отстоявшись, делается ясной и яркой, как созвездие, формулой, я несу ее к тебе через все Енисеи, и мне ничуть не обидно, что оно до тебя не доходит. Молитвы отшельника тоже оседают на ближайших колючках, и от этого не хуже ни Богу, ни колючкам, ни отшельнику!..»
Но до Бориса Леонидовича все доходит! Он, столь небрежный к своим собственным рукописям, сохранил, сберег Алины письма. «Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что кроме тебя я ни с кем не был знаком…»