Тамара Петкевич - Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания
Открытой на столе лежала папка — «собрание сочинений» доносов многих авторов на меня. Как и при аресте, меня выморачивали одиночеством. За спиной в уголья разваливались поленья, догоравшие в «голландке». На оконные стекла давил налетающий ветер. Домов через пятнадцать отсюда находилась моя комната. Лечь бы в постель и проснуться в другом веке, лучше — в прошлом…
От неожиданного дробного стука в окно вздрогнула. Встав и открыв дверь, крикнула:
— Здесь кого-то зовут!
Вернувшийся в кабинет начальник открыл форточку:
— Кто там?
— Я, сынок, уборщица со школы, — раздался оттуда масляный женский голос. — Там счас к учительше заключенный хахаль пришел. В классе они. Без света сидять. Третья дверь справа по коридору. Если сразу кого своих пошлете, так словите их на месте.
— Хорошо, мать. Спасибо, мать.
…Вот как мастерится подноготная этой жизни. Сознательные представители населения в ролях «матерей» и госчиновники — «сынки». «Пошлете! Словите!» Основы безбедного существования общества. Вот они!
— Ну? — кратко спросил начальник.
— Бесполезно.
— И я так думаю.
Он нажал на звонок под крышкой стола. Как во фрунзенской внутренней тюрьме, тут же вошел дежурный:
— Идем.
Это — мне? Ноги плохо слушались. Звенело в ушах. Открыли дверь в небольшой закуток. Закрыли. Теперь и вправду — все!
Села на лавку. Потом легла. Хотелось забыться, ничего не чувствовать. Как долго все это обматывало мутью, кружило. Через это прошли все: Семен, Илья, Тамара Цулукидзе, Симон, Мира, Алексей. У них так же заваливалось сердце… так же не было никого вокруг. От меня самой ничего не зависело.
— Так куда ее? — слышалось из-за двери. Про меня?
— В путевом листе написано.
— Конвой вызывать?
— Давай, — юрко сновал челнок из слов между дежурным и кем-то еще.
Затем все стихло. На ручных часиках стрелки показывали пять часов утра, когда загремели ключи.
— Выходи.
— Куда?
Указали на кабинет.
— Ну что? Будем кончать. Соглашаетесь с нами сотрудничать?
«Он, что же, сидел здесь всю ночь, этот нелобастый, рукастый начальник? Или выспался дома и пришел опять?»
— Нет! Делайте, что задумали. Я все сказала.
— Идите. Вызову еще.
Не доверяя этому «идите», шла к двери, спиной ожидая чего угодно.
Все внутри дрожало: не арестовали? Одной стороной дорога лепилась к поселку, другой была обращена к лесу. Густой молочный туман, исходивший из болота прилесья, рассасывался на глазах. Пели птицы. Квакали лягушки. Я не шла, ступала. Сейчас, сию минуту должно было, казалось, открыться нечто бесконечно важное. Сама Истина. Вот сейчас, в этом рассеивающемся тумане… в поселке Коми…
Почудилось почему-то там, в белесых испарениях, пять повешенных… Я шла и плакала, повторяла их имена. Все, что было с ними, после них и теперь, соединялось в одно. Я ощутила фантастическую связь всех жизней. И тех, великих, и отца, и собственной.
…Не успела я открыть дверь в квартиру, как тут же из своей комнаты выскочила соседка Фаня, работавшая в регистратуре, а за нею медсестра Анна Федоровна, непонятно почему оказавшаяся в гостях в столь ранний час. Обе были сильно пьяны. По одежде было видно: спать не ложились, глушили водку. Я обессиленно привалилась к притолоке. Опухшая от слез, рыжая, веснушчатая Фаня метеором слетала к себе в комнату, и обе, приставив мне ко рту стакан водки, заставили выпить.
— Думала, не увижу вас больше. Простите меня, я подлая, подлая! — запричитала Фаня.
Ах вот оно что! Ну конечно же. Вот откуда у них такая точность чисел и часов. Она давно приставлена ко мне. Потому и поселили вместе. Сколько же их было за жизнь? Серебряков, Роксана, «вторая подруга», Евгения Карловна в Джангиджире… Разве всех перечтешь? И я могла очутиться в их стане?
— Ладно, бедная Фаня, не плачь. Хорошо, что не постеснялась попросить прощения.
Я с рюмкой-то водки не справлялась, а сейчас и стакан не подействовал. Голова оставалась пронзительно ясной.
Теперь, закрыв дверь, все надо было додумать до конца. Ни вызовов, ни вида этих пальцев с пугающе желтыми набалдашниками ногтей ни при каких обстоятельствах я больше видеть не могла. Паспорт? При мне. Трудовая книжка? Кого-нибудь попрошу вызволить после. Вещички? Без них!
Не знала только — куда ехать. Не было и главного — денег. Где их взять?
В восемь утра Бориса выпускали из зоны. Вышла ему навстречу:
— Всю ночь продержали под арестом, якобы готовили к этапу. Больше не могу! Уезжаю.
— Уезжай! Уезжай! Деньги? Сейчас раздобуду. Принесу. Поезжай к моей маме. Там рассудите, как действовать дальше. Жди на станции со стороны леса, — поддержал обрадованный Борис.
Вручив мне деньги, помчался обратно в зону:
— Поезд идет мимо колонны. Провожу оттуда. Счастливо! До встречи на свободе. Уезжай! Не медли!
Все произошло с молниеносной быстротой. Не сама, а попавшегося на глаза знакомого осмотрительно попросила купить мне билет.
Поднявшись по ступенькам в подошедший к Микуни поезд, повернулась лицом к Княж-Погосту:
«Прости, Колюшка, родной, прости. Не сумела приехать проститься. Прощай, единственный! Прощай…»
Приткнувшаяся к железнодорожной станции микуньская колонна из тамбура вагона смотрелась аккуратным чертежом: квадрат зоны с вышками по углам, внутри — ряды прямоугольных бараков. Поскольку заключенных уже вывели на работу, в пустом зонном пространстве между бараков стоял лишь один человек — Борис. Закинув голову, он в прощальном жесте вздернул обе руки, затем раскинул их. Фигура походила на распятие. Заклинательно-преданный порыв ударил в сердце.
Я бежала с Севера.
Совершала фактически то, что когда-то советовал сделать начальник колонны Малахов. С той трагической разницей, что бежала теперь не с сыном на руках, как он подсказывал, а без него.
Поезд шел на Москву. Я мучительно старалась сообразить: что потом?
Из открытки, полученной от Александра Осиповича в Микуни, стало известно, что из лагерей «особого режима» он имеет право писать только раз в полгода. Позже он сумел с нарочным переправить более обстоятельное письмо. Просил не волноваться о нем и как можно чаще писать. Рассказывал об интересном окружении. Были там математики, астроном, веривший в Бога, и митрополит, отрекшийся от Него. Вместе с Александром Осиповичем сидел поэт Ярослав Смеляков, имевший пятнадцать лет срока. От своего и его имени Александр Осипович просил, если я буду в Москве, навестить жену Смелякова Евдокию Васильевну, сообщить ей адрес мужа, если по каким-то причинам он до нее не дошел.
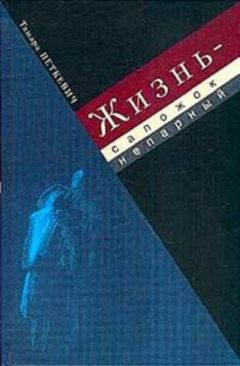


![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](/uploads/posts/books/124/124.jpg)
