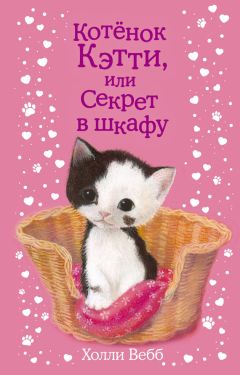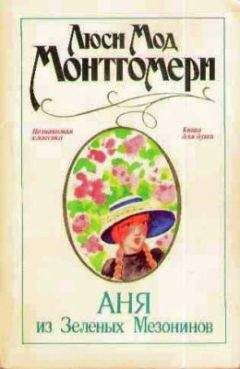Александр Михайлов - Маяковский
Маяковский возмущен и поражен литературной неграмотностью студентов, он начинает отбиваться колкими репликами, он прямо говорит, что не ожидал такого низкого уровня культурности студентов высокоуважаемого учреждения.
Начинается настоящая перепалка. Кто-то из зала кричит: «Демагогия!» Маяковский, перегнувшись через край трибуны, яростно приказывает крикуну: «Сядьте!!» Тот продолжает орать. В зале шум. Все встают. «Сядьте! Я вас заставлю молчать!!!»
Все притихли. Садятся. Владимир Владимирович на пределе сил. Он совсем болен. Он, шатаясь, спускается с трибуны и садится на ступеньки. Полная тишина. И все-таки он находит силы - читает «Левый марш», который сопровождается бурными аплодисментами. После этого примирительно говорит:
«- Товарищи! Сегодня наше первое знакомство. Через несколько месяцев мы опять встретимся. Немного покричали, поругались, но грубость была напрасная. У вас против меня никакой злобы не должно быть...»
Он ушел с этого вечера победителем: три четверти аудитории было за него. Но - какой ценой далась эта победа больному, с расстроенными нервами человеку?.. Ведь это случилось, когда критика вела разрушительную работу, внушая читателям затрепанную версию о непонятности Маяковского, об его индивидуализме, о провале «Бани», когда на обсуждениях пьесы и спектакля - от имени советской общественности - поэта обвиняли в халтуре, в барски пренебрежительном отношении к рабочему классу, а кто-то даже - в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком (имея в виду Оптимистенко). И тон в критике задавали его новые товарищи по литературному объединению - рапповцы.
Может быть, прав Валентин Катаев: Маяковский уже раскаивался, что вступил в РАПП. Во всяком случае, он не нашел здесь взаимопонимания, враждебность к нему со стороны верхушки РАПП проявилась в полемике вокруг «Бани». Рапповцы заставили его снять лозунг против Ермилова.
Маяковского «затравили». Такое обвинение было брошено бывшими соратниками и друзьями поэта по адресу рапповцев. В. Перцов позднее сказал: надо заменить приставку у глагола «затравили»: «за» на «о». Что ж, в этом есть резон. Рапповские критики, особенно группа налитпостовцев, сделали многое, чтобы отравить жизнь Маяковского в последние годы. Но не меньший резон есть и в словах Шкловского, который сказал, что «виноваты прежде всего друзья, а потом враги...».
1930 год не скупился на «сюрпризы» для Маяковского. Юбилейную выставку газеты замолчали, и это уже казалось в порядке вещей. Но все-таки журнал «Печать и революция» решил отметить это событие в жизни поэта. На вкладном листе, перед передовой статьей, был помещен портрет Маяковского с приветствием от редакции:
«В. В. Маяковского - великого революционного поэта, замечательного революционера поэтического искусства, неутомимого поэтического соратника рабочего класса - горячо приветствует «Печать и революция» по случаю 20-летия его творческой и общественной работы».
Сотрудник журнала сообщил об этом Маяковскому, как только в редакции был получен сигнальный экземпляр. Владимир Владимирович ждал выхода тиража журнала. Журнал вышел с опозданием (февральский номер), в начале апреля. Портрет с приветствием был выдран из всего тиража. В редакцию пришло грозное письмо от руководителя ГИЗ. Это он распорядился выдрать и уничтожить портрет с приветствием из журнала и требовал безотлагательно сообщить ему фамилию сотрудника, подписавшего к печати «возмутительное приветствие».
Маяковский о случившемся узнал сразу. Выдирку ему показали на злополучном вечере в Плехановском институте. Петля изоляции, отторжения от литературы и, значит, от жизни, стягивается вокруг него. В прессе ему внушают, что исписался, а на выступлениях небезобидные остряки спрашивают с ехидцей - когда же он, наконец, застрелится...
«Никогда еще, - пишет Валентин Катаев, - не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. Куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми стрелами, рождающимися мгновенно».
Это состояние сказалось и на его отношениях с Вероникой Полонской. После лета, после встреч на юге, в Хосте, многое переменилось.
«Тогда, пожалуй, у меня был самый сильный период любви и влюбленности в него, - вспоминает В. В. Полонская. - Помню, тогда мне было очень больно, что он не думает о дальнейшей форме наших отношений. Если бы тогда он предложил мне быть с ним совсем - я была бы счастлива».
Однако Маяковским в это время владело другое чувство. Он с нетерпением ждал осени, поездки в Париж.
Парижская надежда рухнула. «Любовная лодка разбилась...» Обо что? Опять о «быт». Быт в его представлении - то, что враждебно человеку. Любовь попрана. Уязвлено самолюбие. Не оно ли внесло в их отношения с Полонской нервозность? Вокруг не было никого, кроме нее, кто мог бы заполнить образовавшуюся пустоту в сердце. Непомерная эта тяжесть, выпавшая на долю молодой женщины, пугала ее.
Маяковский мрачнел, он старался не впутывать Полонскую в разговоры о своих неприятностях с Рефом, РАПП, с постановкой «Бани», но шила в мешке не утаишь. Встречи их уже не приносили радости ни тому, ни другому. Деликатность и предупредительность стали чередоваться со сценами ревности, перемены настроения были резки и неожиданны, в отношениях его к Веронике появилась какая-то исступленность, он стал раздражительным, требовал частых свиданий, и, в конце концов, даже потребовал, чтобы она бросила театр. Суеверно следил, чтобы Вероника носила половинку шейного платка, купленного им и разрезанного на две части (вторую он набросил на лампу в своей комнате). А она была увлечена театром, впервые получила большую роль в инсценировке романа В. Кина «По ту сторону», что для молодой актрисы явилось целым событием.
Болезненное состояние еще больше накаляло атмосферу встреч. Брики в середине февраля уехали в Лондон. Лиля Юрьевна перед отъездом посетила семью Маяковских и пожаловалась матери: «Володя стал невыносим. Я так устала! Мы с Осей решали съездить в Лондон к маме». (Мать Л. Ю. Брик работала там в одном из советских учреждений.)
После отъезда Бриков Полонская стада каждый день бывать на квартире в Гендриковом, ухаживала за больным Владимиром Владимировичем. Размолвки оканчивались согласием, миром, Маяковский внес пай в кооператив на квартиру, это связывалось с планами на будущую совместную жизнь. Цветы дарились со стихами: «Избавясь от смертельного насморка и чиха, приветствую вас, товарищ врачиха».
И все же отношения между ними осложнялись и запутывались и не только из-за нерешительности Полонской круто переменить жизнь, но и из-за нетерпения, максимализма, нервозности Маяковского. Встречаться приходилось на людях, скрывать близость было уже почти невозможно. Как вспоминает Полонская, Владимир Владимирович вел себя несдержанно: «Часто он не мог владеть собой при посторонних, уводил меня объясняться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснить все немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим».