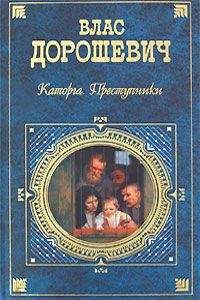Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
Петербургский свет взбаламучен новостью, герои грибоедовского «Горя от ума» князь Тугоуховский, княгиня Марья Алексевна, Загорецкий гадают, что сулит приход «купеческого министра». Скалозуб, естественно, интересуется, «как драть будет» новый начальник: «По-прежнему или к шпицрутенам вернется?» К Гучкову «на разведку» идут представители разных общественных сил. У него «ищется» деятель «Союза русского народа», но получает единственный совет — «припугнуть мирную публику», благодаря чему «рядом с вами мы такими либералами покажемся». «Кадетский князь» просит разрешить съезд своей партии и слышит от министра-президента, что партии, которая не смеет крикнуть ни «долой революцию!», ни «да здравствует революция!», не существует. Политика, утверждает Гучков, «должна быть жизненна, реальна». Он отчитывает правительственного газетчика: «Кадетов революционной партией называете!!! Да еще доказываете! На весь народ, во всю глотку орете: „Революционная! Революционная!“ Обрадовались!» А когда тот оправдывается: он, мол, полагал, что «того же взгляда держится правительство», министр тычет пальцем в окно: «Где держится? Здесь! А не там!.. Здесь, в этом кабинете, я всякому кадету в лицо швырну: „Революционер“! Очень просто! Но здесь! Мозги у вас зачем? Шевельните! Здесь! А не там! Не там!» Министр не желает, чтобы в конкурирующую партию «без бомб, баррикад» пошел записываться народ.
Кокетничая перед иностранным корреспондентом («у меня ни знаний, ни опыта»), Гучков одновременно откровенничает с замыслившим покушение на него террористом, убеждая его, что когда из-за забастовок «жизнь станет невозможной <…> станет невозможно ничего делать: торговать, пахать, работать, учиться, спать», тогда «у вашей армии, измученной, истомленной, опустятся руки» и придут они, «практики». Министр-президент готовит декларацию, о которой в «Фигаро» сообщают как о документе, рассчитанном на широчайшую общественную поддержку. По уверению французской газеты, «с появлением у кормила правления г. Гучкова волнение вокруг государственного корабля сразу стихнет, и Россия спокойно и прямо пойдет в гавань благоденствия». Но вскоре «Правительственный вестник» извещает, что «министр-президент увольняется от должности вследствие прошения по болезни». Не задалась «реальная политика» у А. И. Гучкова как героя «фантастической повести, отвергнет его как „ненастоящего министра“ бюрократический аппарат. В день появления декларации в печати по Петербургу уже ходила пародия на нее, в которой особо подчеркивалось: „Цены на человеческую жизнь нами оставлены прежние“. Совершенно очевидно, что стремясь представить как можно шире и объективнее и кредо самого „премьера“, и разнообразие оценок его личности и политики, Дорошевич не доверяет политическому комбинированию Гучкова. Собственно, об этом было сказано еще за полгода до публикации „Премьера“, в фельетоне „Великий исповедыватель“: „И Петербург, который представляет собою самый большой участок на свете, вероятно, очень ласкает „старающегося“ А. И. Гучкова“»[1059]. Но он угадал потенциал фигуры: сильный, напористый деятель, делавший ставку на сотрудничество с «просвещенной бюрократией», еще проявит себя на политической арене и продержится вплоть до краха старой России.
Если с первой Думой все-таки связывались определенные надежды, то накануне выборов во вторую скепсис Дорошевича усиливается. Хотя «Русское слово» в начале 1907 года сообщило, что для него «предметом особого внимания будет, конечно, Государственная Дума. Ей будет отведено первое место в газете»[1060]. При содействии верхов («разъяснения» Сената) в Думу активно пошел «расплюевский элемент». Бессмертный герой Сухово-Кобылина, квартальный надзиратель Иван Антонович Расплюев, всегда был для Дорошевича воплощением существа российской власти. И сейчас, в период удушения общественных надежд на демократическое обновление страны, этот жутко комплексующий в связи с собственной неполноценностью холуй и хам почувствовал, что пришло его время («веселые расплюевские дни»), и рвется на вершины власти. В фельетоне «Перед Думой» он откровенно заявляет, что «находит по своим способностям, для пользы начальства возможным занять пост министра-президента»: «По здравому рассуждению вижу, что я для этой роли России и управляющему ею начальству самим Провидением послан»[1061].
Знаковой фигурой торжествующей «расплюевщины» стал для Дорошевича прошедший во вторую Думу от Бессарабской губернии В. М. Пуришкевич. Он писал о нем еще в «России», когда тот был председателем аккерманской земской управы и уже тогда отличался демагогическими приемами и стремлением подавить любое инакомыслие. И, кстати, за это его поколотил местный архитектор[1062]. Нынче же Пуришкевич, один из создателей «Союза русского народа», достиг «высшей власти», благодаря «великолепнейшему избирательному закону, при котором даже Расплюевы могут иметь своего представителя». В посвященном ему фельетоне Дорошевич и сокрушается и надеется: «Знаю, что часто меня охватывают тоска и отчаяние:
— Доживем ли мы до лучшего будущего? Суждено ли нам, нашему поколению своими глазами, при жизни, увидеть лучшее?
И ужас сковывает мое сердце при мысли:
— Сильны! Сильны!
Но в эти минуты тоски, отчаяния, ужаса за себя, за родину, — ты, ты, тень моего крестника, ты, образ г. Пуришкевича, утешаешь меня и наполняешь мое сердце верой и надеждой.
Ты — залог светлого будущего.
Если ты, аккерманский герой, призван…
— Значит, тонут, если хватаются за соломинку!
И какую соломинку!..
Значит, игра проиграна, если с тебя ходят. Если ты — крупный козырь в игре.
Значит, игры нет!»[1063]
Но и к либералам, кадетам, почти наполовину утратившим свои позиции во второй Думе, нет доверия. Он называет их «недальновидными политиканами» и «конституционалистами-аристократами»[1064]. После третьеиюньского переворота 1907 года в Думе главенствующее положение заняли октябристы. Отношение Дорошевича к «внутридумской смене» совпадает с характеристикой Ленина, писавшего, что «смена второй Думы третьей Думой есть смена кадета, действующего по-октябристски, октябристом, действующим при помощи кадета»[1065]. За две с лишним недели до начала работы третьей Думы в «Русском слове» появляется «Повесть о том, как Стахович съел Стаховича (Нравоучительный рассказ для кадетов старшего возраста)», в которой обыгрывается факт ухода к октябристам видного кадета М. А. Стаховича. «Кадетская Дума, застрахованная в „Обществе 17 октября“, — иронизирует Дорошевич.