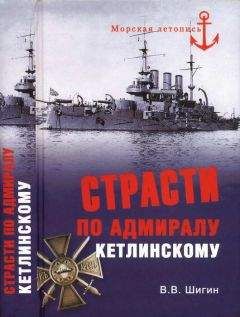Юрий Давыдов - Три адмирала
Альминские реляции, отступление Меншикова убедили Англию и Францию в близком падении Севастополя. Но Энгельс предвидел, что «Севастополь будет взят только после отчаянного сопротивления и ужасного кровопролития; кровавые картины сражения на Альме, конечно, будут превзойдены в своем роде ужасами штурма и взятия Севастополя».
Ураганный шквал 5 октября не сокрушил обороняющихся. Севастополь выстоял. Неприятель поневоле признал необходимость долгой осады. Однако ни один генерал ни тогда, ни позже не посмел бы и не захотел бы признать, что за длительное мирное время перед Крымской войной материальная часть европейских армий прогрессировала в той же мере, в какой деградировало их искусство воевать.
Вслед за чудовищной «брандовкой» наступило затишье. Затишье относительное. Потому что пушечная дуэль не умолкала, хотя и не была столь интенсивной, как 5 октября. Потому что пароходо-фрегаты, подкараулив соперников, завязывали стычки. Потому что на пикеты и траншеи неприятеля налетали пластуны, эти неуловимые полуночники, которые сами о себе говорили: «Где сухо — там брюхом, где мокро — там на коленках…» Потому что на исходе все того же октября случилось Инкерманское дело. Меншиков его не хотел. Его хотел Николай. Дело было проиграно. И тягостное впечатление от этого проигрыша затмило предшествующую удачу под Балаклавой. А в Севастополе уже ощущалась нехватка снарядов. Она понудила защитников умерить мощь артиллерийских контрударов. И вот теперь уж в особенности начинает чувствоваться та роковая недостача в средствах ведения войны, которая и придала севастопольской эпопее резкие черты трагизма.
Давно все это отошло в прошлое, но и нынче горестно слушать очевидцев. «…Подняли в дело такие орудия, которые если бы не этот случай, то, верно, лежали бы до второго пришествия в арсенале, а в нужде и те поставили на место; бывало, привезут ядра и пошла пригонка, годно или негодно, а если и есть зазор на 1/8 вершка, то на это моряки говорили артиллеристам: «Ничего, сойдет», и правда, что ничего; как стукнет, бывало, — так в ушах и зазвенит, но наносили они вред неприятелю или не наносили, нам известно не было».
Или вот еще: «Но досаднее всего это то, что на каждый наш выстрел они отвечали десятью. Наши заводы не успевали делать такого количества снарядов, чтоб нанести хоть небольшой вред неприятелю; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель доставлял все, что только ему нужно».
И еще: «…Мы собирали осколки, клали в жестянки и заряжали мортиры. Пущенные таким образом, осколки осыпали неприятельские траншеи. Были у нас своего рода ланкастерские пушки. Чугунные, бомбические пушки с отбитыми цапфами мы вкапывали под углом в землю, давали желаемый угол возвышения, подкладывая клин. Пущенные из этих орудий бомбы залетали в неприятельский лагерь, но чаще разрывались в высоте по неимению трубок для дальнего полета. Были частые разрывы чугунных пушек, что наносило большой вред прислуге».
Обычно упоминается лишь о малом числе штуцеров, то есть нарезных ружей, упоминается, что за эдакую редкость пластунам, добытчикам их у неприятеля, платили денежную награду, что штуцера вручали лишь самым метким стрелкам, по-нынешнему сказать — снайперам. Но и с гладкоствольными ружьями севастопольцы хватили горюшка.
«…Французские пули Минье, введенные у нас во время осады, после двух или трех выстрелов не входили в дуло. Солдаты загоняли пулю, ударяя камнем по шомполу; шомпол гнется в дугу, а пуля не подается. Колотили как в кузнице. Солдаты приносили сальные огарки, смазывали пулю, но все не помогало. Ружья, переделанные на нарезные, раздирались по нарезам. Не мудрено, что в таком положении офицеры приходили в отчаяние, а солдаты бредили изменой».
Еженощное исправление порушенных за день укреплений, прокладка подземных минных галерей требовали саперного инструмента. Чего уж кажется проще, тут тебе не артиллерия, не пули Минье, не штуцера, однако опять-таки выходило худо. «На работах при каменистом грунте наш шанцевый инструмент, столь красивый на инспекторских смотрах, оказался мало пригодным. Только и можно было работать инструментом, добытым от неприятеля, преимущественно английским. Даже железо татарских топоров оказывалось сноснее нашего при разбивке камня для щебня».
Крымская война была не только войной с внешним врагом, но и с врагом внутренним: фронтовиков с тыловиками. И в мирное время казнокрадство цвело махровым цветом. Теперь оно достигло небывалого размаха. В еще бóльшей степени, нежели нищету материальную, империя ощущала нищету моральную: в людях элементарной честности.
Чиновники, коммерсанты, подрядчики, интенданты не могли бы так «развернуться», если б получали должный отпор от высшего строевого офицерства. (Например, такой, какой задал Нахимов в случае, описанном Лесковым.) Отпора не было. Была стачка, рука в руку, полное взаимопонимание. «…Все эти генералы, — писал Энгельс, — командующие корпусами, дивизиями, бригадами с их соответствующими штабами, хорошо известные своим подчиненным, хорошо знающие друг друга, прекрасно чувствующие себя на своих постах и при исполнении своих обязанностей, — все это оказалось сплошным грандиозным сговором для присвоения казенных денег и расхищения солдатских пайков, обмундирования и сумм, предназначенных для устройства их быта»[152].
«Вкоренился обычай мошенничества разного рода», — с горечью замечал современник. Впрочем, подобный «обычай» не был специфически русским. Он был, так сказать, интернациональным. Один из поляков, находившийся на султанской службе, признал впоследствии, что «интендантства союзных держав научили турок, как обкрадывать и обсчитывать казну. Эта западная школа принесла обильные плоды».
Под стать всем прочим видам обеспечения войск пришлось и медицинское. Не хватало врачей и санитаров, не хватало медикаментов, даже носилок. Госпитали не поспевали размещать изувеченных. Да и сами госпитальные условия были омерзительными. Свидетелем — авторитет непререкаемый: уже упомянутый выше Николай Иванович Пирогов.
Отмечая «общность» интендантства русского с интендантством союзных армий, следует отметить и сходство госпитальных условий. Прочтите, обращался Маркс к читателям «Новой одерской газеты», «описание положения дел в госпиталях (союзников. — Ю. Д.), описание тех позорно жестоких условий, в которых — не то из-за нерадивости, не то из-за беспечности — находились больные и раненые как на борту транспортных судов, так и по прибытии на место назначения». И ниже: «На месте не нашлось ни одного мужчины, обладавшего достаточной энергией, чтобы разорвать эту сеть рутины и действовать на свою ответственность, руководствуясь требованиями момента и вопреки регламенту. Лишь одно лицо осмелилось это сделать, и это была женщина, мисс Найтингейл».