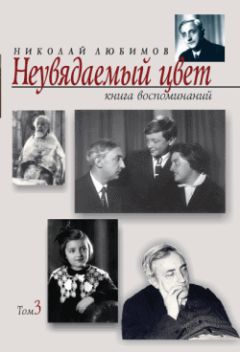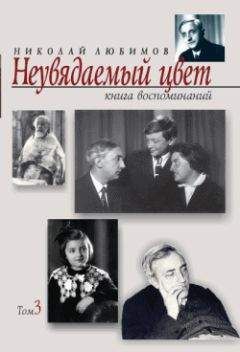Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2
Несколько дней спустя молодой человек опять ко мне заявился. На мое счастье, я не поправился. Врач продлил мне бюллетень.
– Разрешите посмотреть ваш бюллетень, – с трудом сдерживая раздражение, сказал молодой человек.
Бюллетень был мне выдан врачом из поликлиники Министерства здравоохранения, к которой я был тогда прикреплен. Диагноз: грипп, радикулит.
– Та-ак… – помявшись, вымолвил молодой человек. – Значит, придется обойтись без вашей помощи.
На сем мы расстались. Но я понял, что продолжение последует, только, по всей вероятности, не так скоро. Однако зачем я опять понадобился?.. Ответ как будто напрашивался сам собой: должно быть, это как-то связано с делом моей матери.
Находился я в приятном ожидании два с лишним года.
В 47-м году, утром, на второй день Пасхи, мне опять сказали, что меня кто-то спрашивает. Выйдя в переднюю, я увидел накрашенную дамочку, которой можно было дать лет тридцать с хвостиком. Она вынула из сумочки бумажку и протянула мне. Это была повестка из Военкомата: мне предлагалось явиться сегодня, к четырем часам. Я расписался в получении.
– Но вы придете сегодня? – спросила дамочка.
– Приду, – слегка удивленный ее вопросом, ответил я.
Удивил меня и самый вызов, – о перерегистрации и переосвидетельствовании военнообязанных я ничего не слыхал, – и его срочность, и то, что повестку мне прислали не через домоуправление, и то, что Военкомат избрал своим гонцом типичную «секретутку».
Ровно в четыре часа я пришел в Военкомат (он помещался тогда на Тверской) и отдал повестку одному из сотрудников. Тот начал рыться в папках с таким видом, как будто никак не может найти мое дело. Было ясно, что ему для чего-то нужно протянуть время. Потом он куда-то исчез, затем снова появился и сказал:
– С вами хочет поговорить товарищ комиссар, но сейчас он занят. Подождите немного.
Я почуял недоброе.
К комиссару меня вызвали довольно скоро. У него в кабинете стоял какой-то мозгляк в штатском.
– Ваш военный билет? – обратился ко мне комиссар.
Перелистав билет, комиссар вернул его мне и указал на мозгляка:
– Пройдите вот с этим товарищем.
Вдвоем с плюгавцем мы вышли на улицу.
– Я из МГБ, – отрекомендовался он. – Мои начальники хотят вас о чем-то спросить, но это минутное дело – вы тут же вернетесь домой. Нас ждет машина, вот тут, за углом.
Мы свернули в ближайший переулок и сели в машину.
Дорогой я смотрел вперед и по сторонам с той же мыслью, с какой смотрел всякий раз на небо, идя на отметку в НКВД в Архангельске: может быть, я вижу московские улицы в последний раз… И все-таки хорошо, что нарыв прорвался…
Машина остановилась в Фуркасовском переулке, слева, если смотреть на него с Кузнецкого моста, возле углового дома с магазином внизу, выходящего в переулок и на Большую Лубянку.
В кабинете меня ждал человек в военной форме, наружности ничем не примечательной, не специфически гепеушной; человек с таким лицом мог служить и в пехоте, и в связных частях. Я запомнил его фамилию: Журавлев.
Речь пошла о моей биографии. Не дожидаясь его вопросов, я сказал, что был арестован, сослан, куда и насколько, чем занимался в Архангельске и что судимость с меня снята. Не поинтересовавшись, в чем меня обвиняли, Журавлев, слегка озадаченный моей прямотой, – по крайней мере, мне так показалось, – задал мне вопрос, кто мои родители. Я и тут решил предупредить дальнейшие его расспросы и сказал, что мою мать арестовали в 41-м году и что теперь она находится в концлагере.
– А за что ее арестовали?
– Вот этого я вам сказать не сумею. Меня тогда в Перемышле не было. Одно я знаю наверное и из ее писем ко мне, и из разговоров с моими земляками, что она, несмотря на угрожающие приказы немцев, ни в каких учреждениях при них не работала и никому зла не делала, – напротив, заступалась.
– Наверно, все-таки что-нибудь это у нее из-за немцев, – неожиданно мягко, не осуждая мою мать, а лишь высказывая предположение таким тоном, каким говорят о людях, которых могли замести под горячую руку, сказал Журавлев и, к моему удивлению, переменил разговор. Больше о моей матери я в этом кабинете не услышал ни слова.
Журавлев спросил, доволен ли я своим положением в литературе.
– Я счастлив, что Гослитиздат доверил мне перевод «Дон Кихота», – ответил я.
– Да, конечно, работа большая, ответственная… А современную иностранную литературу вы не переводите?
– Нет, давно уже не перевожу.
Он спросил, не помню ли я, кто входит в коллектив переводчиков книги, недавно выпущенной издательством «Иностранная литература», – «Совершенно секретно»?
Я назвал несколько фамилий.
– А Горбов?
– Правильно: и Горбов.
– А вы не помните, Горбов в свое время входил в группу «Перевал»?
– Кажется, входил.
– А еще кто туда входил, не припомните?
Я сделал вид, что напрягаю память:
– Пришвин… Павленко… Сергей Бородин…
Я не случайно назвал эти фамилии: про этих трех МГБ было все известно, а вот о «перевальстве» менее заметных фигур, как, например, Богословский или Замошкин, могли и забыть. К тому же, Пришвин был старик, корифей, ему даже в 37-м простили его «перевальство». Павленко (писатели прозвали его «Подленко») был одним из главных сталинских фаворитов, Бородин в 42-м году получил Сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской».
– А больше никого не припомните?
– Нет. Ведь это уже старина. Когда существовали литературные группировки, я стоял в стороне от литературы.
– Там еще и Воронский был?
– Ну хорошо… Подождите…
Журавлев вышел.
«Старая песня…» – подумал я.
Но тут вошел какой-то вахлак и сел поодаль.
Ждать пришлось довольно долго.
– Мне нужно в уборную, – обратился я к вахлаку.
Туда и обратно я прошествовал под вахлацким конвоем, Меня ни на секунду не оставляли одного. Все это должно было нагнетать во мне чувство» что связи мои с внешним миром уже оборваны. Я был почти уверен, что это игра, но именно «почти»; в стенах этого учреждения, пока не выйдешь на улицу, надо быть готовым ко всему.
Вошел Журавлев.
– Вы не курите?
– Нет, благодарю вас, бросил.
– Вы с Горбовым лично знакомы?
– Знаком.
– Встречаетесь?
– До войны несколько раз были друг у друга, а потом перестали встречаться. (Я говорил правду.)
– Почему же?
– Во время войны было не до встреч, а после войны на меня нахлынула большая работа, и теперь я вообще ни с кем не вижусь, даже на спектакли и концерты времени не хватает. В сорок первом году у меня родилась дочь – я много внимания уделяю ей.
– Что ж, это похвально. Воспитание детей – тоже дело ответственное, не менее, чем ваш литературный труд.