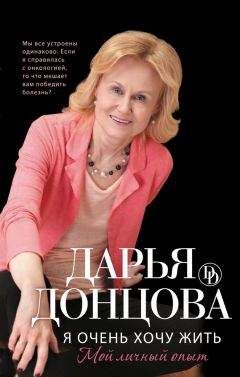Евгения Гинзбург - Крутой маршрут
— Мальчик? Вы спрашиваете про казанского мальчика? Да вот сидит на диване, беспокоится, что за ним долго не идут... Шампанского не хочет, трезвенник...
Снова взрыв смеха. Потом кто-то берет у весельчака трубку и сухим злым голосом говорит:
— Почему же вы, гражданка, не идете за сыном? Он хоть и знает адрес, но в чужом месте трудно сразу сориентироваться. А провожать его здесь некому. Хватит и того, что с материка привезли.
— Я... я сейчас... Сию минуту... Я не знала...
Я положила трубку. Хотела бежать. Но тут со мной приключилось что-то странное. Ноги точно прилипли к полу, стали пустыми и ватными. Как сквозь слой воды, услышала голос дежурного на вахте:
— Эй-эй-эй, ты что, девка? Никак с копыт валишься? — Он выглянул в вахтенное окошечко и крикнул кому-то: — Добеги-ка там до Кареповой! Скажи, ейная родня тут концы отдает.
Появилась Юлька. Валериановые капли, валидол...
— Возьми себя в руки. Я пойду с тобой, — твердила Юля, сама бледная и взволнованная.
Картина, которую мы застали в квартире Козыревых, напоминала кадр из давнишних фильмов, где кутили и разлагались белые офицеры. Мы топтались в прихожей, ожидая выхода Нины Константиновны, и в полуоткрытую дверь видели блеск погон, разгоряченные лица, слышали звон стеклянной посуды, взрывы хохота, пьяные возгласы.
— О, это вы? Проходите, проходите... Он уж тут заждался, приуныл совсем, — гостеприимно пригласила нас хозяйка, — вас двое? А вот интересно, узнает ли он, которая мама?
Ей очень хотелось разукрасить и без того интересное трогательное зрелище этой предполагаемой сценой узнавания.
— Смотри, Тамара, — окликнула она свою дочь, жену следователя, — сейчас у нас тут будет, как в кино. — И, обернувшись к дивану, добавила: — Вот, Василек, видишь? Две дамы... Одна, стало быть, твоя мама. Ну-ка выбери: которая?
И тут только я нашла наконец глазами то, что тщетно пыталась различить в кутерьме этого кутежа. Вот он! В углу широченного дивана неловко приткнулся худой подросток в потертой курточке.
Он встал. Показался мне довольно высоким, плечистым. Он ничем не напоминал того четырехлетнего белобрысенького толстяка, что бегал двенадцать лет назад по большой казанской квартире. Тот и цветом волос и голубизной глаз был похож на деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. Этот был шатеном, глаза посерели и издали казались карими, как у Алеши. Вообще он больше походил на Алешу, чем на самого себя.
Все эти наблюдения делал как бы кто-то, стоящий вне меня. Сама же я, оглушенная, неспособная к какой-либо членораздельной мысли, была поглощена как будто только тем, чтобы выстоять на ногах, чтобы не свалиться под гулом ритмичного прибоя крови, бьющего в виски, в затылок, в лицо...
Выбирать между мной и Юлей он не стал. Он подошел ко мне и смущенно положил мне руку на плечо. И тут я услышала, услышала наконец то самое слово, которого боялась не услышать вовеки, которое донеслось ко мне сейчас через пропасть почти двенадцати лет, через все суды, тюрьмы и этапы, через гибель моего первенца, через все эльгенские ночи.
— Мама! — сказал мой сын Вася.
— Узнал! — восхищенно закричала Козырева. — Вот она, кровь-то! Всегда скажется... Видишь, Тамара?
Нет, глаза определенно не карие. Не Алешины. Те, карие, закрывшиеся навеки, не повторились. И все-таки... Как он похож на тогдашнего десятилетнего, нет, почти одиннадцатилетнего, Алешу! Оба моих сына как-то слились у меня в этот момент в один образ.
— Алешенька! — шепотом, почти непроизвольно вымолвила я.
И вдруг услышала глубокий, глуховатый голос:
— Нет, мамочка. Я не Алеша. Я Вася. — И потом быстрым шепотом, на ухо: — Не плачь при них...
И тут я справилась с собой. Я посмотрела на него так, как смотрят друг на друга самые близкие люди, знающие друг о друге все, члены одной семьи. Он понял этот взгляд. Это и был тот самый переломный в моей жизни момент, когда восстановилась распавшаяся связь времен, когда снова возникла глубинная органическая близость, порванная двенадцатью годами разлуки, жизнью среди чужих. Мой сын! И он знает, хоть я еще ничего ему не сказала, кто МЫ и кто ОНИ. Призывает меня не уронить своего достоинства перед НИМИ.
"Не бойся, сынок. Я не заплачу", — говорю я ему взглядом. А вслух деловым, почти спокойным голосом:
— Поблагодари Нину Константиновну, Васенька, и пойдем домой, нам пора.
Козырева посмотрела на меня с удивлением и нескрываемым разочарованием. Неужели я не буду долго рыдать, обнимая сына? Неужели не расскажу гостям о том, как страдала в разлуке? Не растрогаю ее зятя, который хоть и выпил, а все-таки хмурится, глядя на странных гостей?
— Как домой? Да вы присядьте, выпейте хоть по чарке за встречу. Вот люди! Железные какие-то! И не прослезилась даже... Скажи, Тамара!
Нас еще долго тормошили, совали в руки бокалы с шампанским, а те из офицеров, кто был подобродушнее, — а может, попьянее, — даже усаживали нас за стол. И Юлька, дипломатичная хозяйка утильцеха, выручила: присела на минутку и даже хлебнула винца, чтобы не обиделись, изъяснила, махнув на нас с Васькой рукой, что оба мы совсем замотались: он — с дороги, мать — от долгого ожидания.
Это случилось девятого октября сорок восьмого года. Спустя одиннадцать лет и восемь месяцев я снова вела по улице своего второго сына, крепко держа его за руку.
Но как она тонка, эта ниточка, скрепившая порванную связь времен моей жизни, как она трепещет на ветру! Не дать ей порваться снова! Удержать, удержать во что бы то ни стало...
— Нет, Вася, ты пойми, что твоя мама добилась почти невозможного, — торопливо объясняла Юля, довольно невразумительно обрушивая на неподготовленную Васькину голову все мои перипетии с отделом кадров Дальстроя, с посещением Гридасовой, со сбором денег на дорогу...
Но, по существу, она права: я действительно добилась почти невозможного. Вот он идет рядом со мной, шагая шире, чем я, и несет в руках свое имущество: заплатанный стираный-перестираный рюкзак, похожий на наши лагерные узелки. И телогрейка на его плечах такая же, какие носят у нас в Эльгене. При мне на материке никто не носил таких телогреек. Наверно, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробит, что на Васе такое, почти лагерное одеяние... Уже маячит передо мной новая сверхзадача — пальто для Васи.
Мы шли и молчали, не находя слов для выражения того, слишком большого, что надо было сказать. Слово теперь было только за Юлей. И она без умолку говорила всю дорогу, объясняя Ваське сразу про все. И про то, как вырос Магадан, и какой он был раньше, и про замечательную среднюю школу, и про нашу новую очень просторную — пятнадцать метров! — комнату.