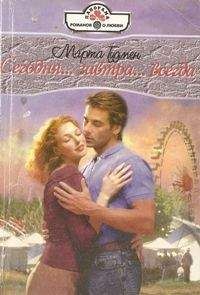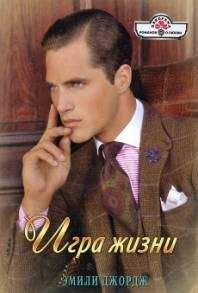Виктор Есипов - Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции
— Мне казалось, что, несмотря ни на что, жизнь у тебя счастливая и легкая.
— Нет, очень тяжелая.
— Ты написал рассказ о Ванечке — тебе стало легче? Вообще, когда писатель перерабатывает вещество жизни в прозу, становится легче?
— Не знаю. Нет. Писать — это счастье. Но когда пишешь про несчастье — не легче. Она там, в рассказе, то есть Майя, спрашивает: что же мы теперь будем делать? А я ей отвечаю: будем жить грустно.
«Они хотели убить меня»— Вася, а зачем ты уехал из страны — это раз и зачем вернулся — два?
— Уехал, потому что они меня хотели прибрать к рукам.
— Ты боялся, что тебя посадят?
— Нет. Убьют.
— Убьют? Ты это знал?
— Было покушение. Шел 1980 год. Я ехал из Казани, от отца, на «Волге», летнее пустое шоссе, и на меня вышли «КамАЗ» и два мотоцикла. Он шел прямо мне навстречу, они замкнули дорогу, ослепили меня…
— Ты был за рулем? Как тебе удалось избежать столкновения?
— Просто ангел-хранитель. Я никогда не был каким-то асом, просто он сказал мне, что надо делать. Он сказал: крути направо до самого конца, теперь газ, и крути обратно, обратно, обратно. И мы по самому краю дороги проскочили.
— А я считала тебя удачником… Ты так прекрасно вошел в литературу, мгновенно, можно сказать, начав писать, как никто не писал. Работа сознания или рука водила?
— В общем-то рука водила, конечно. Я подражал Катаеву. Тогда мы с ним дружили, и он очень гордился, что мы так дружны…
— Ты говоришь о его «Алмазном венце», «Траве забвения», о том, что стали называть «мовизмом», от французского «мо» — слово, вкус слова как такового? А у меня впечатление, что сперва начал ты, тогда и он опомнился и стал по-новому писать.
— Может быть. Вполне. Он мне говорил: старик, вы знаете, у вас все так здорово идет, но вы напрасно держитесь за сюжет, не надо развивать сюжет.
— У тебя была замечательная бессюжетная вещь «Поиски жанра» с определением жанра «поиски жанра»…
— К этому времени он с нами разошелся. Уже был «Метрополь», а он, выступая на своем 80-летии по телевизору, сказал: вы знаете, я так благодарен нашей партии, я так благодарен Союзу писателей… Кланялся. Последний раз я проезжал по Киевской дороге и увидел его — он стоял, такой большой, и смотрел на дорогу… Если бы не было такой угрозы моим романам, я бы еще, может, не уехал. Были написаны «Ожог», «Остров Крым», масса задумок. Все это не могло быть напечатано здесь и стало печататься на Западе. И на Западе же, когда я начал писать свои большие романы, произошла такая история. Мое главное издательство «Рэндом Хауз» продалось другому издательству. Мне мой издатель сказал: не волнуйся, все останется по-старому. Но они назначили человека, который сперва присматривался, а потом сказал: если вы хотите получать прибыль, вы должны выгнать всех интеллектуалов.
— И ты попал в этот список? Прямо как у нас.
— Приноси доход или пропадешь — у них такая поговорка. Этот человек стал вице-президентом издательской компании, и я понял, что моих книг там больше не будет. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка.
— Вася, ты жил в Америке и в России. Что лучше для жизни там и здесь?
— Меня греет то, что в Америке читают мои книги. Это, конечно, не то, что было в СССР… Но меня издают тиражами 75 тысяч, 55 тысяч…
— Но я спрашиваю не о твоих эгоистических, так сказать, радостях, я спрашиваю о другом: как устроена жизнь в Америке и как у нас?
— В Америке удивительная жизнь на самом деле. Невероятно удобная, уютная. Во Франции не так уютно, как в Америке.
— В чем удобство? К тебе расположены, тебе улыбаются, тебе помогают?
— Это тоже. Там много всего. Там университет берет на себя множество твоих забот и занимается всей этой бодягой, которую представляют формальности жизни, это страшно удобно.
— А что ты любишь в России?
— Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать.
— Кому и чем чувствуешь ты себя обязанным в жизни?
— Я сейчас пишу одну штуку о моем детстве. Оно было чудовищным. И все-таки чудовище как-то давало мне возможность выжить. Мама отсидела, отец сидел. Когда меня разоблачили, что я скрыл сведения о матери и об отце, меня выгнали из Казанского университета. Потом восстановили. Я мог загреметь на самом деле в тюрьму. Потом такое удачное сочетание 60-х годов, «оттепели» и всего вместе — это закалило и воспитало меня.
— Ты чувствовал себя внутри свободным человеком?
— Нет, я не был свободным человеком. Но я никогда не чувствовал себя советским человеком. Я приехал к маме в Магадан на поселение, когда мне исполнилось шестнадцать лет, мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский. Я даже один раз прицеливался в Сталина.
— Как это, в портрет?
— Нет, в живого. Я шел с ребятами из строительного института по Красной площади. Мы шли, и я видел Мавзолей, где они стояли, — черные фигурки справа, коричневые слева, а в середине — Сталин. Мне было девятнадцать лет. И я подумал: как легко можно прицелиться и достать его отсюда.
— Представляю, будь у тебя что-то в руках, что бы с тобой сделали.
— Естественно.
— А сейчас ты чувствуешь себя свободным?
— Я почувствовал это, попав на Запад. Что я могу поехать в любое место земного шара, и могу вести себя, как захочу. Вопрос только в деньгах.
— Как и у нас сейчас.
— Сейчас все совсем другое. Все другое. Кроме прочего, у меня два гражданства.
— Если что, будут бить не по паспорту.
— Тогда я буду сопротивляться.
— Возвращаясь к началу разговора, женщина для тебя, как писателя, продолжает быть движущим стимулом?
— Мы пожилые люди, надо умирать уже…
— Ты собираешься?
— Конечно.
— А как ты это делаешь?
— Думаю об этом.
— Ты боишься смерти?
— Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться. Мы все дети Адама, куда он, туда и мы, ему грозит возвращение в рай, вот и мы вслед за ним…