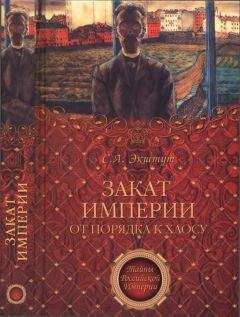Вениамин Каверин - Эпилог
Вот Ваши подлинные слова:
«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием”, ох не ту меру получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о “суровости” приговора».
Да, Михаил Александрович, вместе со многими коммунистами Италии, Франции, Англии, Норвегии, Швеции, Дании (которых в своей речи Вы почему-то именуете буржуазными защитниками осужденных), вместе с левыми общественными организациями Запада я, советская писательница, рассуждаю, осмеливаюсь рассуждать о неуместной, ничем не оправданной суровости приговора. Вы в своей речи сказали, что Вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагал взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них и не за себя, а за Вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своею речью навеки отлучили себя от этой традиции.
Именно в «памятные двадцатые годы», то есть с 1917 по 1922, когда бушевала Гражданская война и судили по «правосознанию», Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасать писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись благодаря ему к своим рабочим столам.
Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что «милость к падшим призывал». Чехов в письме к Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: «Пусть Дрейфус виноват, а Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться за виноватых,
раз они уже осуждены и несут наказание… Обвинителей, прокуроров… и без них много».
Дело писателей — не преследовать, а вступаться…
Вот чему учит нас великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, что приговор суда был недостаточно суровым.
Вдумайтесь в значение русской литературы.
Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом очеловечивающий смысл русской литературы.
Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге — «Записки из Мертвого дома», книгу Льва Толстого о тюрьме — «Воскресение». Оба писателя страстно всматривались в глубь человеческих судеб, человеческих душ и социальных условий. Не для дополнительного осуждения осужденных совершил Чехов свою героическую поездку на остров Сахалин, и глубокой оказалась его книга. Вспомните, наконец, «Тихий Дон» — с какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных социальных сдвигов, происходивших в стране, и мельчайших движений потрясенной человеческой души относится автор к ошибкам, проступкам и даже преступлениям против революции, совершаемых его героями! От автора «Тихого Дона» удивительно было услышать грубо-прямолинейный вопрос, превращающий сложную жизненную ситуацию в простую, элементарнейшую — вопрос, с которым Вы обратились к делегатам Советской армии: «Как бы они поступили, если бы в одном из подразделений появились предатели?» Это уже прямой призыв к военно-полевому суду в мирное время. Какой мог быть ответ воинов, кроме одного: расстреляли бы! Зачем, в самом деле, обдумывать, которую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявский и Даниэль, зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах, какие события побудили их взяться за перо и какие свойства нашей теперешней, современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке их! Расстрелять в 24 часа!
Слушая Вас, можно вообразить, будто осужденные распространяли антисоветские листовки или прокламации, будто они передавали за границу не свою беллетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода… Этой подменой сложных понятий простыми, этой недостойной игрой словом «предательство» Вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя, чья обязанность всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого всю многосложность, противоречивость процессов, свершающихся в литературе и истории, и не играть словами, злостно и намеренно упрощая и тем самым искажая случившееся.
Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С Вашей точки зрения, в этом его недостаток, с моей — достоинство. И однако, я возражаю против приговора, вынесенного судом.
Почему?
Потому, что самая отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной.
Потому, что книга, беллетристика, повесть, роман, рассказ, словом, литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому, не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок — только не за его книги. Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря.
Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.
А сама литература отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы.
Лидия Чуковская 25.05.66
Второе послесловие
Прошло более пятнадцати лет с тех пор, как я закончил эту книгу, и наступил счастливый день, когда мне стало ясно, что я напрасно назвал ее «Эпилогом». Правда, я оговорился, предупредив читателя, что эти страницы не имеют прямого отношения к истории советской литературы, а косвенное отношение заключается лишь в том, что вся моя шестидесятипятилетная работа является ее малой, но неотъемлемой частью. Но как бы я ее ни назвал, не было ни малейшей надежды, что она когда-нибудь увидит свет и окажется лишь полустанком, мимо которого пролетит, сверкая ярко освещенными окнами, поезд нашей литературы. Я сжег рукопись, оставив только один экземпляр для себя и самых близких друзей. Трудно было работать, держа в памяти все, что было рассказано на этих страницах. Отодвинуть, загнать в самый далекий уголок памяти бесформенную груду неоправдавшихся надежд, обманутых ожиданий, горьких разочарований, забыть о них или притвориться, что они забыты, — не решившись на этот шаг, продолжать работу я не мог. А ведь были еще силы, был опыт, были неожиданности, заставлявшие кидаться к столу, был, наконец, привычный образ жизни, который в те годы, когда уходили навсегда сверстники и друзья, приобрел надо мной непреодолимую власть. Надежды не было. Надежда держалась на мысли или, точнее, на чувстве, что в России литературу убить невозможно. И вот, держась за эту тонкую ниточку, литература устояла. И не только устояла. Показала, что она полна сил. Журналы преобразились, вломились в каждую семью и заняли в сознании еще не бывалое по значению место. Спор, непреложный спутник размышлений, поднялся на недосягаемую высоту искренности, откровенности, глубины. Он углубил борьбу мнений, а от борьбы мнений рукой подать до борьбы направлений. Критика начинает ориентироваться на себя как на художественную литературу. В понятия, которыми она оперирует, наряду с темой начинает входить жанр и стиль. Усиливается внимание к форме — в наше время уже трудно вообразить съезд писателей, на котором никто не говорит о литературе как искусстве.