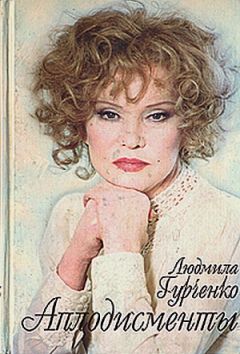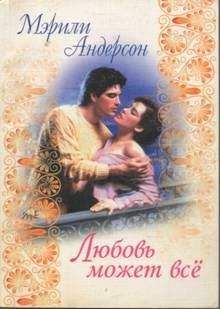Людмила Гурченко - Аплодисменты
— Ой, Леля, как интересно, расскажи, что дальше было.
— Ну что, что было. Говорю, ты посмотри, у девочки глаза синие, как у тебя. Говорит: «И в Шурки синие». И уши твои. «Уши, ще перерастуть». Да улыбка твоя, Марк-котик. «Дети все, Леличка, приятно влыбаются». Марк, да ты посмотри на ее ноги, посмотри. «Ноги?! Ну, ноги мои. Таких сулдыг ни у кого нема. Ноги на усе сто процентов мои. Это як закон. Ах ты ж, моя дорогенькая дочурочка, ты ж у меня як вырастишь, ты же ув обязательном порядку актрисую будишь. Тебя увесь мир будить знать, а женихи усе окны повыбивають. Прости меня, моя жена ненаглядная, прости немедленно, пока я увесь сдаюсь, увесь виноватый. Щас могу на колени перед тобой стать. А лучий не надо. Ты ж знаешь, могу усе передумать. Да, корочий, обнимай мужа немедленно, пока я такой добрый».
— Во страсти, Леля, ужасть какие страсти. Да, тогда это был бы не Марк Гаврилович. Это ж сколько бы ему сейчас было б? Родился 23 апреля 98 года, а сейчас 91 год. Сейчас ему было 93 года. Да, генерация уже уходит, Лелечка, уже уходит.
— Уходит генерация, Лидочка, уходит.
— Люся, знаешь, когда я нервируюсь, я двигаюсь. Я вообще много двигаюсь. Я все делаю, кручусь, мотаюсь. Я стираю руками. Машиной не стираю. Раз, два, три и все! У меня раньше руки болели. А теперь руки не болят. И спина не болит. Человеческий организм, видишь ли, какое дело… Нервы. А я стараюсь не нервничать… Да, на этой ноге у тебя все порвано. Это еще тогда в семьдесят шестом, на картине? Настоящий артроз. Но соли тебе не угрожают. Для соли почва — жир.
— Ты об этом Леле скажи.
— Не убивай в моей сестре единственную радость жизни.
— Мам, ну ты рада, что Лидка приехала?
— Видишь ли, Люся, она ведь связывает меня еще как-то с моей семьей… Мама, папа. При всем при том меня только с ней и связывают какие-то вещи…
— Лидка молодец, за собой следит, подтянутая, спортивная.
— Да, Люся, я спортивная. Мне аэробику делать не надо. Я иду по воду. Мне, чтобы набрать ведро воды, нужно сделать сорок качков. Один качок — полтора метра. И каждый день два ведра.
— Ну и что ты, Лидочка, от вашей источниковой воды такая здоровая?
— Да причем тут вода? Клянусь тебе богом, меня ничто не берет. Если я чуть поправлюсь, знаешь что я делаю? Я беру велосипед и мотаюсь три дня. Иначе я могу задыхаться — начинает же сердечная сумка жиреть. А потом живот. Я не могу выносить живот. Вечером еду снимаю. Ем последний раз в шесть вечера. Люся, не кивай не Лелю. Это надо чувствовать. А ты не заметила, что я уже не седая? Я же была белая вся. А теперь я тебе даю торжественное слово: я к тебе приеду на день рождения с зубами.
— Лидочка, только пожалуйста, не делай железные. Это же страшно. Ты помнишь, те твои харьковские знакомые железными зубами клацкали, прямо как роботы.
— Нет, Леля, я думаю сильное напыление сделать.
— Какое напыление, Лида? Никакого напыления нет. Золотое напыление? Ну тогда так и скажи: хочу вставить золотые зубы.
— Ладно, Леля, какие будут, такие и будут. Ой, Люся, что я тебе скажу за это золото. Когда я ушла на пенсию, наш председатель цехкома говорит: «Лидия Александровна, вы так хорошо нам помогали по общественной линии, что мы хотим вам сделать что-нибудь хорошее». Собрался цехком и решил: отдать Симоновой талон на золото. Боже сохрани, говорю, отдайте его кому-нибудь: на черта мне то золото. Я сроду ничего золотого не покупала. Проходит время. У нас там есть один начальник техотдела. «Симонова — говорит, — по цеху ходит разговор, что ты от золота отказалась. Все бьются, очередь им не дают. Тебе дали, ты отказалась. А я тебя считал за умного человека». Я говорю, зачем мне золото? Мне завод выделил 160 рублей. Я купила телевизор. Этот, как его, «Березку». У меня ж телевизора не было. А потом до меня дошло, что то золото по четыре или пять рублей за грамм. Нет, Люся, это не низкое золото. На производстве дают талоны по первичной цене. Это как награда. Настоящее золото. И пробы что надо. Вот я себе и зубы вставлю по довоенной стоимости. Я никогда талонов не видела на золото. Ну, думала, цепочки, кольца. Но чтобы талоны на зубы… Ой, Леля, у вас совершенно другой хлеб. У нас в Харькове такой страшный хлеб, в рот брать невозможно. Раньше был хоть серый хлеб. Я вообще люблю серый хлеб. Я очень люблю серый хлеб. Люблю и батоны. И люблю серый хлеб. А серый хлеб печь не стали. Не знаю, почему. Ну, батоны есть батоны, а серый! Эх, серый… Ой, Леля, я вчера зашла на Пушкинскую площадь — там митинг. Подошла к молодому человеку и спрашиваю: дорогой товарищ, за что вы сейчас боретесь? — «За свободу, за демократию». — Ясно, говорю, за это уже мы боролись, а вы-то сейчас, сейчас за что? Леля, он не нашелся.
— Лидка, тебе обязательно везде нужно сунуть свой нос. Вот возьмут тебя за одно место… А паляныци в Харькове еще есть?
— Какие паляныци, Леля, о чем ты говоришь! Хлеб, конечно, из Москвы брать не буду, но макарон и вермишели наберу обязательно.
— А что, в Харькове нет?
— Харьковская вермишель… Я тебе сейчас, Люся, объясню. Она синяя. Вот ты ее завариваешь — вообще передать нельзя… Синяя, расплывается, и, извините, конечно, но она, как сопли.
— Но ведь вы живете на Украине, житнице.
— Да, Люся, Украина — житница. И все Герои Социалистического труда. У нас Герои — все. Все абсолютно.
— Ну так что же, Лида, ничего хорошего в Харькове нет? Ну хоть что-нибудь сдвинулось?
— Метро! — выпалила мама. — Люся, в Харькове прекрасное метро.
— Да, метро. Метро хорошее, ничего не могу сказать.
— Лида, какая станция тебе больше всего нравится?
— Где, в Харькове?
— Лида, а про что мы говорим? Мне вообще «Пушкинская» очень понравилась.
— А мне «Дзержинская».
— Да, и «Дзержинская».
— Что-то, Леля, сейчас здорово взялись за Сталина. Все уже теперь знают о предсмертной ленинской записке съезду. Нам Нолек, ты помнишь, еще тогда говорил. К черту. Знаешь, мне кажется так: раз уж случилось, нечего об этом болтать. Все. Ну что? Легче от этого стало? Нет?
— Люди должны знать. Нельзя же так.
— Ну как, ну как, Люся, ну давай. Культ личности Сталина. Хорошо. Терпим. Дальше. Брежневщина.
— Хрущевщину забыла.
— Да, забыла. Перетерпели. Дальше брежневщина. Ладно. Ну и что? Все. Дошли до нуля. Обокрали все государство. Обокрали народ. Обманули людей. Куда дальше, куда? — Она перешла на шепот: — Общество, которое построено, социалистическим назвать нельзя. Ни в какие рамки не укладывается. Оно уже от ленинизма на тысячи… ушло давным-давно. Оно должно было иначе идти, совершенно… Что сказал Ленин? Я, Леля, тридцать лет учила марксизм-ленинизм. Вот сколько работала, столько и учила его в политшколе. И знаешь, что я себе толком вынесла? Что оставила из всех ленинских трудов? Единственное изречение Ленина. Когда совершилась революция, Ленин сказал: «Деревенскую прослойку ни в коем случае не допускать к руководящим постам». Какие бы ни были деревенские люди — у них остались мелкособственнические пережитки. И уйдут, испарятся они не раньше, чем через сто лет. Можно выдвигать на руководящую работу или квалифицированного рабочего от станка или интеллигента. Наконец-то вспомнили интеллигента. Когда его уже нет. Его уже снесли. Основы ж нет. Нет основы, Леля. Так о какой чести говорить? О каком достоинстве говорить? Где его видеть, интеллигента? Видеть негде, Люся, а я-то помню. Я-то училась, ты этого уже не застала. Я училась у царских учителей. Царские учителя. Что они нам прививали? Они прививали нам чувство собственного человеческого достоинства. Это достоинство должно было быть нам выше всего. Выше денег, благ, выше всего, всего. Никакого унижения личности. Ты посмотри, нас в третьем классе называли на «Вы». Тебе смешно? Не-е-т, это не смешно. «Лидочка, пройдите сюда. Войдите пожалуйста в класс!» Детей, нас всех детей — на «Вы». Тебя на «Вы» — и ты себя, понимаешь, ты себя, Люся, тоже. Ты шел и поднимался! Ты рос! В своих глазах ты рос, понимаешь? Ты шел и поднимался. Ты рос. Ты рос в своих глазах. Ведь тебя сам учитель называет на «Вы». Ты идешь к доске, и не можешь, не смеешь, не имеешь права не выучить. Срамота! Ведь тебя, ребенка, сам учитель называет на «Вы». А сейчас? «Пошла из класса вон, дура!»