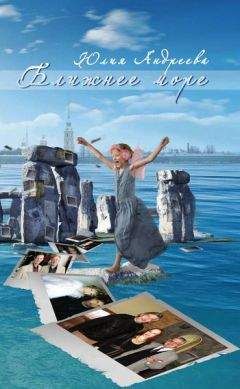Константин Симонов - Так называемая личная жизнь
- Когда же это?
- Сказали, что сегодня, рано утром.
Всю дорогу до редакции Лопатин больше ничего не спрашивал. Сидел и молчал. Значит, когда сегодня здесь в Москве, на аэродроме, Ника бросилась тебе на шею, Гурский уже был убит.
Выходит, что последний раз в жизни ты видел его, когда он, стоя в "виллисе", прощально махал самолету своей пилоткой, которую собирался сменить на фуражку. И его слова: "Представь себе, как я б-буду хорош в ламп-пасах", - были последними, которые ты слышал. А когда вы полчаса назад, лежа в постели, мельком вспомнили о нем - он уже давно лежал где-то там, убитый...
Лопатин подумал об этом с ощущением неясной вины, словно, если б они с Никой все время думали и говорили о Гурском, а не о себе, он мог бы остаться жив. Было чего-то, необъяснимо чего, стыдно, и Лопатин прошел прямо в кабинет редактора, не заходя к высунувшемуся из своей двери Леве Степанову, чувствуя, что лучше без предисловий, иначе недостанет сил для предстоящего разговора...
"Наверное, вызывают, чтоб вы заметку про него дали", - входя в кабинет, вспомнил он слова водителя, на которые по дороге не ответил. Но с первых же слов редактора понял, что вызван не за этим. Редактор ходил по кабинету и, остановившись при скрипе двери, повернулся к Лопатину. Он выглядел расстроенным. Здесь, в редакции, это была первая для него смерть.
- Василий Николаевич, с прискорбием хочу вам сообщить...
- Мне уже сказали, товарищ генерал, - прорвал Лопатин редактора, вдруг забыв его имя-отчество.
- Тогда я вам зачту телефонограмму, которую передал для нас по ВЧ начпоарм через узел связи Генштаба.
Генерал вынул из кармана кителя очки и, взяв с конторки лист бумаги, стал читать: "Сегодня, 18 августа, 5.43, находясь составе разведроты плацдарме территории Восточной Пруссии, при обратной переправе через Шешупа погиб результате смертельного осколочного ранения военный корреспондент "Красной звезды" Б. А. Гурский. Как бывший редактор "Красной звезды" обращаюсь вам личной просьбой выслать представителя редакции участия захоронении вручения личных вещей завершения на месте незаконченной корреспонденции "Наконец". Желательно Лопатина. Вопрос посмертном награждении поставлен мною Военном совете армии. Начпоарм".
- "Наконец" - очевидно, название его корреспонденции, - сказал генерал, дочитав телеграмму.
- Очевидно, - сказал Лопатин. Обалдев от горя, он только посередине чтения, услышав слова "как бывший редактор", понял то, что должен был бы понять сразу, после первого же упоминания о начпоарме - что телеграмма от Матвея и Гурский погиб у него в армии. К нему поехал, у него и погиб.
- Что вы скажете, товарищ Лопатин? - спросил генерал, очевидно по-своему, по-другому, чем это было на самом деле поняв обращение Лопатина "товарищ генерал".
- Надо завтра ехать, то есть лететь, - поправил себя Лопатин. - Если вы дали согласие.
- На такое личное обращение ко мне моего предшественника я, естественно, не мог не дать согласия. Место на самолет до штаба фронта, по моей просьбе, уже оставлено за нами. Речь о другом - кому персонально лететь.
- Речь-то обо мне, Михаил Александрович, - вспомнив имя-отчество генерала, сказал Лопатин. - Мне и лететь.
- Есть и другие кандидатуры. Их уже обсуждали. Но отложили решение до вашего прибытия. Вы лишь сегодня вернулись с фронта и, как я уже рекомендовал вам, должны сходить к медикам. Мои предшественник, давая телеграмму и называя вас, был, наверно, не в курсе дела с вашим здоровьем.
Услышав это и вспомнив Матвея, Лопатин внутренне усмехнулся: если успел увидеть Гурского - скорей всего, в курсе. Но для такого, как он, это ничего не меняет.
- Не горячитесь, Василий Николаевич. Осведомлен о вашей дружбе с покойным и от него самого, и от других, но мертвого не воротишь. А здоровье у нас с вами одно на всю жизнь, тем более когда мы уже немолоды. - Генерал, кажется, принял молчание Лопатина за колебание.
Но Лопатин не колебался, просто думал: как все это будет трудно - и тут, и там. И может быть, тут трудней, чем там.
- Вы его матери - она здесь, в Москве - еще не сообщали? - спросил он.
- Думали и решили, что как раз это лучше сделать вам.
- Это - мне, а то - кому-то другому? Не получится, Михаил Александрович.
Лопатин слишком хорошо понимал неотделимость одного от другого. "Как так, прийти к его матери, сказать, что ее Боря погиб, а потом начать объяснять ей, что, хотя похоронить его просили тебя, но полетишь к нему не ты, - как повернется на это язык?" - подумал он, но вслух сказал совсем другое:
- Я рассматриваю эту телефонограмму как личное обращение вашего предшественника не только к вам, но и ко мне. И в том, что касается меня, прошу оставить решение за мной.
- Ну что ж, быть по сему, летите! - Генерал вздохнул. Судя по выражению его лица, ему все это не правилось, но логика, стоявшая за словами Лопатина, оказалась сильней.
- В его незаконченной корреспонденции я там, на месте, разберусь, сказал Лопатин. - Что потребуется, допишу и передам по военному проводу.
- С этим можете не торопиться, это дело второе, - сказал генерал.
"Хороший ты человек, но не газетчик, - подумал Лопатин. - Не понимаешь, что это как раз и есть дело первое". Он вспомнил о Нике, о том, что через несколько минут придется звонить ей, и спросил, известно ли, когда завтра пойдет самолет.
- Известно. Мне доложили, что в семь ровно.
- И еще одни вопрос: когда я буду у его матери, вправе ли я сказать ей от вашего имени, что впоследствии, если позволит дальнейшее продвижение наших войск и общая обстановка на фронте, будут приняты меры, чтобы она могла посетить могилу сына? Можно ее этим обнадежить? Больше - нечем!
- В принципе, разумеется, - без колебаний сказал генерал, и Лопатин, прощаясь с ним, еще раз подумал, что он хороший человек.
Лева Степанов сидел в своей комнате и ждал Лопатина.
- Летите? - спросил он.
Лопатин кивнул, сел к столу и, сняв телефонную трубку, чтобы позвонить Нике, остановился и поглядел на Леву:
- Вот на этот раз действительно выйди. Будь другом, оставь меня одного...
21
Он шел к матери Гурского, плохо представляя себе, как все это будет. Вот он войдет, поздоровается с ней и скажет. А что потом?
Уже трижды за войну - в сорок первом и два раза в сорок третьем - ему приходилось вот так приходить в дом и говорить, что его нет, про человека, которого считали живым.
В сорок первом он пошел сам, потому что сам видел, как это было, и, кроме него, некому было прийти и рассказать.
А в сорок третьем он оба раза сам не был свидетелем происшедшею и знал убитых и их уже успевших вернуться из эвакуации в Москву жен не лучше, чем их знали другие люди в редакции, по именно его - в одном случае редактор, а в другом товарищи - попросили первым пойти и сказать. Почему-то считали, что он сделает это лучше других. И хотя он сам так не считал, но это принадлежало к числу тех просьб, в которых не отказывают. И он приходил и говорил и хорошо помнил все, что происходило после этого. Но все те три раза - это были молодые женщины, у которых кто-то оставался: дети, отцы, матери, братья, сестры... У них в жизни было еще что-то, кроме вдруг переставшего быть.