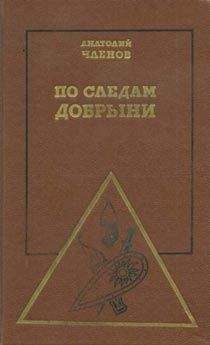Николай Мельниченко - Ещё вчера…
Но это было потом. Стоит рассказать о том мире, в который нам предстояло вживаться, теперь стало понятно, – надолго. Наша Ириновка располагалась в двухстах километрах от железной дороги, без нормальных автомобильных дорог к ней, с единственным телефоном в сельсовете, работающем от случая к случаю, и это накладывало отпечаток автономности на всю здешнюю жизнь. По украинским меркам ириновский колхоз был богатейшим. Колхозники недостаток коммуникаций вполне заменяли высоким жизненным уровнем. Например, до войны средняя семья получала на трудодни около 10 тонн (!) пшеницы, которую даже сейчас с руками оторвали бы итальянцы для своих спагетти. (Когда мы с голодухи начинали жевать почти прозрачные зерна пшеницы, то в остатке оставался большой ком нерастворимого белка, подобный жевательной резинке). Мука для хлеба – очень вкусного, исключительно домашней выпечки, – просеивалась на шелковых (!) ситах, затворялась на самодельных дрожжах из хмеля и отрубей. Достаточно было и других злаков: кукурузы, гречихи, овса, проса. В горах колхоз содержал 17 пасек по 150-200 ульев, и колхозники зарабатывали по 200-300 килограммов целебного горного меда, который, кроме чаепития и выпечки всяких сластей, применялся аборигенами для изготовления непередаваемой прелести и крепости медовухи – благо хмель выращивался здесь же. При каждом дворе был поливной огород размером около 100 соток, что составляет целый гектар (эти сведения интересны несчастным владельцам несчастных 6 соток). Обычно половина огорода отводилась под бахчу, то есть под арбузы и дыни. Огромные сладкие арбузы и непередаваемо прекрасного запаха и вкуса дыни аборигены ели почти все лето и осень. Арбузы помельче осенью солили в огромных бочках и потребляли их до следующего урожая. Дыни – целые дирижабли – разрезали на ломтики и вялили на солнце, затем заплетали в косички по три. По вкусу и запаху эти косички далеко оставили бы позади любые Сникерсы и Баунти. Картошка, огурцы, помидоры, огромные, серые снаружи и ярко оранжевые внутри, тыквы, – любые овощи – на хорошо унавоженных поливных землях под жарким солнцем давали сказочные урожаи. Поскольку рынки сбыта были почти недоступны, то, например, три-четыре куста помидор запросто покрывали потребности средней семьи. Возле каждого дома росли фруктовые деревья: яблони, абрикосы, сливы, тутовые деревья. В сараях возле дома у каждой семьи стояли по одной-две коровы, телята, свиньи и овцы или козы. Кроме того, в колхозных отарах колхозники содержали по 20-30 своих овец и коз, которых стригли или забивали на мясо по мере необходимости.
Коренных проблем у местных жителей было две: вода для полива и топливо. Эти проблемы, конечно, успешно решались, пока не ушли на войну все работоспособные мужики. Оставшиеся старики, женщины и дети справлялись с извечными заботами хуже. Воду надо было брать в горах. Свободно текущая горная река, широкая и свирепая весной, когда в горах таяли ледники, к середине лета почти пересыхала, испаряясь на раскаленных камнях. Но дело даже не только в этом. Река безумно растрачивала свою энергию, падая с многочисленных водопадов, и возле села проходила уже в глубокой долине, откуда поднять воду на полив можно было только мощными насосами. Ни насосов, ни энергии для их вращения, конечно, не было. Поэтому высоко в горах часть воды отводили в специальный канал. Этот канал петлял по холмам предгорья с минимальным уклоном и подходил к селу на достаточной высоте. Вдоль главной улицы села был прорыт основной арык – канава с отлогими берегами, по которой протекала живительная вода. Перегородив основной арык, каждый мог направить поток воды на свой огород. Естественно, к живущим ниже по течению уже ничего бы не дошло. Поэтому власть и сами жители составляли жесткий круглосуточный график водопользования, который неукоснительно соблюдался. Если ты проспал свой час ночного полива, никто тебе не позволит брать воду из арыка, кроме как ведром, когда ты проснешься. Как говорили древние: "Dura lex, sed dura". И канал с гор, и система арыков требовали непрерывного ухода и восстановления, без которых они ветшали и переставали работать.
Вторая головная боль – топливо, тоже требовала немалых усилий. Основное топливо – кизяк, это изготовленные по саманной технологии кирпичи, в которых вместо глины использовался навоз. Особенно за свою теплотворную способность ценились овечьи шарики. Навоз нужен был также для огорода. Но скота ставало все меньше: некому было косить траву весной, некому пасти отары и охранять их от волков. Сокращались и топливные ресурсы. Еще один вид топлива вырастал в степи в виде кустов дикого миндаля – карагая и кустиков таволожника с тоненькими как бы лакированными стебельками, тонущими в воде. В пойме реки еще можно было нарубить лоз. Но вблизи села все уже было вырублено, а доставка с удаленных мест упиралась в транспорт: много ли дотащишь на своих плечах?
Однако, все это стало известно потом. Сейчас нас встретил незнакомый мир, засыпанный снегом, с сильными морозами, в котором надо было устраиваться надолго, – никто не думал, что так надолго. Хозяйка и дочки нас встретили радушно и участливо, накормили, обогрели, сводили в баню. Жить нам предстояло в гостевой половине избы, с отдельным входом из сеней и глинобитным полом. Большую часть комнаты занимала огромная русская печь с пристроенной лежанкой. Место для меня нашлось сразу: на вершине печки под близким потолком. Все равно туда больше никто не помещался, – Тамила ведь осталась в Аягузе. Через несколько дней мы определились: мама пошла работать в школу учителем математики, которого здесь не было вообще. Оказывается, именно поэтому мы были распределены в Ириновку. Нас "поставили на довольствие": эвакуированным полагался хлеб, некоторые овощи, и, главное, топливо в виде кизяка и керосин для освещения. Это очень обрадовало нашу хозяйку, которая с тоской взирала на уменьшение своих запасов. Хлеб мы получили в виде огромного белого каравая, набросились на него, с благодарностью Советской власти за проявленную заботу о нас сирых. Правда, из всего остального "положенного" маме удалось "выбить" немного керосина. Выдача хлеба тоже вскоре прекратилась: его просто не было вообще. Хлебом должен был обеспечивать колхоз, но учителя не были его работниками, да и вообще весь хлеб подчистую был вывезен: во время войны хлеб – материал стратегический, и все это понимали. У нас появилась новая учительница Шейнман Сара Самуиловна, студентка последнего курса пединститута, вывезенная из блокадного Ленинграда. После ее рассказов о буднях жителей блокированного Ленинграда, мы казались себе обожравшимися обывателями, а наше недоедание – плод воображения, пресыщенного чревоугодием. Забегая вперед, скажу, что печеный нормальный хлеб я попробовал вживую только весной 1944 года. (Слово "нормальный" станет понятным после описания моего собственного опыта хлебопечения весной 1943 года). Правда, кое у кого из аборигенов оставались какие-то запасы, и они выдавали своим детям "тормозок" в школу в виде кусочка белого(!) хлеба. На вопрос: "Если муки мало, то почему вы печете такой белый хлеб?", ответ был: "Мы не можем портить остатки муки, выпекая серый хлеб". Гастрономическую тему не так легко окончить, рассказывая о тех голодных днях, и я буду к ней постоянно возвращаться.