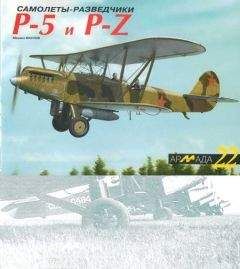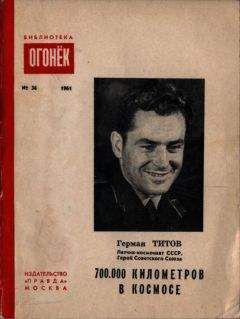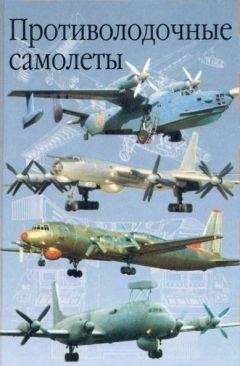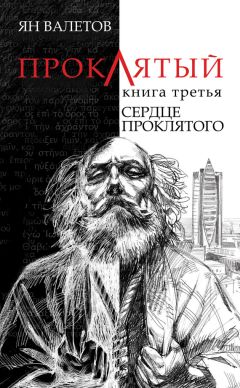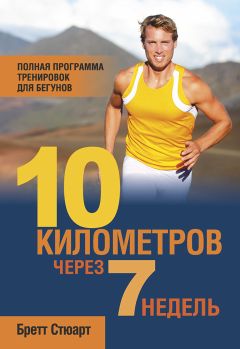Леонид Семенов - Грешный грешным
Наконец утром 12 декабря меня позвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я свободен, еще передали из Петербурга письмо от младшей сестры Маши, институтки. Она писала, что Маша была у ней, рассказывала обо мне, и вот она поэтому пишет мне о своем сочувствии и желает мне свободы. Почему же не от нее самой? Дрогнуло что-то внутри. Но, нет. Не может быть. Уж слишком велика была радость свободы. В участке, куда повели меня из тюрьмы, взяли от меня подписку о моем немедленном выезде в Курск. Я выпросил себе один день. Я уж не торопился. Покой, уверенность и мужественная решимость не торопиться, чтобы тем достойнее оказаться встречи с сестрой Машей, вдруг разом заменили прежний страх, и все тюремное показалось только слабостью. А в Курске надо было еще устроить некоторые другие дела заключенных, успевших передать со мной просьбы на волю, в том числе подготовить побег тому гимназисту, который просил у нас яду. Побег потом удался.
Из участка я поехал к знакомому присяжному поверенному, в доме которого останавливался раньше. Был уже вечер. Пошли разговоры, расспросы. За обедом, когда я сказал, что еще не тороплюсь в Петербург, вдруг водворилось молчание. Муж с женой переглянулись и сразу после обеда стали куда-то собираться. Я думал у них провести вечер и ночь, как это делал раньше, и заикнулся об этом. Но вдруг услышал холодный, как мне показалось, ответ, чтобы я сходил к Кувшинниковым, другим моим знакомым в Курске. Немного задетый этим, я терялся в догадках, что бы это значило, не нарушил ли я какие-нибудь правила партии, которою был связан с присяжным поверенным, я пошел к Кувшинниковым. Это была простая помещичья семья, состоявшая из немолодых уже мужа и жены и их детей, девочек от 17 до 5 лет, считавших меня за героя. Сам брат Кувшинников был со мною вместе в заключении в Старом Осколе, но теперь был на свободе. После всех приветствий, радости и ласк детей, во время которых и я весело заявил, что намерен погостить у них в Курске, после вечернего чая все, я не заметил как — вышли из комнаты, и я остался один на один с хозяйкой дома. Наступило молчание.
— А вы знакомы с Марьей Михайловной Д-й? — вдруг спросила она меня.
Я так и вздрогнул: откуда она знает ее имя?
— Да, знаком, — отвечал нерешительно, не зная, что будет дальше.
— А вы знаете, она ведь очень больна… — начала она.
Но я уже все вдруг понял.
— Ее нет….. От меня скрывают это. Зачем скрывают. Я давно это знаю. она вынула телеграмму. Ничего не скрывали.
— Подготовьте Леонида к страшному для него несчастью. Маша Д. скоропостижно скончалась сегодня 11-го декабря в 10 ч. утра. Руманов.
Всего только вчера….. Одного дня не дождалась меня. Боже мой. Боже. Я выбежал в другую комнату и рыдал.
* * *Но в ту же ночь со скорым поездом выехал в Петербург. Нашел еще в себе самообладание спешно исполнить поручения заключенных. Зашел проститься к присяжному поверенному. Поблагодарил его. Кувшинников молча сопровождал меня всюду с боязнью, как мне казалось, чтобы я не сделал чего-нибудь над собой. Но мне смешна была эта боязнь. Она ушла отсюда, но я еще остался здесь. Решимость жить была окончательная. Я один исполню, чего не исполнили вместе.
— Хочется для вас жизни нужной, как мне хочется смерти нужной. — Вспомнились теперь эти ранние слова ее мне и стали теперь священным заветом ее мне. Найти эту нужную жизнь, найти форму для этой нужной жизни, для жизни Того, что мы видели в себе уже с нею как Свет.
— За вас умираю….. Ступите на каменную плиту могилы моей и идите вперед и все выше….. нашел я в Петербурге ее слова в записках, оставшихся после нее.
6
Ничего необыкновенного в ее кончине не было.
Нежная и хрупкая телом, она никогда не думала о себе, стыдилась этого. Никогда не видел ее никто сознающей свою усталость, сонной или жалующейся. Целый день могла она бегать по улицам Петербурга в хлопотах о других из одного конца города в другой, по крутым лестницам, по магазинам, по редакциям, забывая про пищу. Говорили, что такое хождение не могло не отразиться на деятельности сердца. Уже на войне заболела она. Стали появляться у ней какие-то обмороки[19]. В Петербурге она от всех скрывала это. Всегда предчувствуя заранее приближение их, она успевала заранее уходить от всех, запираясь на ключ в своей комнате. Сама лечилась. В последний месяц ее жизни на земле все видели, как таяла ее плоть. Но так же бегала она по Петербургу, готовилась к экзаменам на медицинских курсах….. «Медицинские курсы — это мой поцелуй земле», — написала она раз подруге. «Помнишь Соню Мармеладову, как она велит Раскольникову пойти на Сенную площадь и там поцеловать грязную землю за то, что слишком высоко поставил он свою отвлеченность, свою идею. И я такая же отвлеченная… Слишком долго жила такой отвлеченной ненужной жизнью»….. Так не ценила она то неземное, что все видели в ней и на что молились в ней другие, и так велика была ее жажда здесь, на земле, сейчас же, в грязи ее каждому принесть хоть какую-нибудь радость, оказать этим любовь.
Однажды шла она с подругой по улице. Кто-то попросил у них денег. Сестра Маша сейчас же вынула и дала, и тот тут же при них пошел в казенку за вином.
— Ну вот, зачем же ты дала ему. Ты видишь, на что он просит….. - возмутилась подруга.
— Ну, что ж, и хорошо, что дала. Ты ведь подумай только, Женя, у него нет никакой другой радости в жизни, кроме этой. Пусть же хоть эта-то будет.
Но это уже почти отчаяние, это уж неверие в смысл и цель жизни, неверие из жалости к людям. Жалость наполняла ее всю; жалость ко всем слабым, несчастным и грешным была, казалось, самой душой и даже самой телесной оболочкой ее. Она складывала мучительные складки улыбки на ее лицо, она напрягала стремительно вперед весь нежный, хрупкий стан ее, точно готовый прильнуть и покрыть материнской лаской каждого, она глядела на нас из бездонно глубоких, широких, темных и строгих глаз….. Сама плоть ее была дивным дополнением к ее духу, так что перед лучистостью ее невольно опускается взор.
Но медицинские курсы ее не удовлетворяли. Мысль о деревне, о ее школе, о «ребятишках, оставленных, покинутых там на произвол судьбы», о голодных — не давала ей покоя. Что-то манило ее туда, что-то открывалось ей, может быть, новое там. Ниоткуда ее письма не дышали таким покоем и счастьем, и радостью, как оттуда. «Как хорошо мне, уютно в школе, писала она. — А кругом красота неописанная, благословенная. Поля, луга, цветы. Казалось бы, только и жить. Только горя реченька заливает всю жизнь». И как любили ее дети и вся деревня, свою Марью Михайловну. Как берегли ее. Но в Тульскую губернию ей после ареста въезд был запрещен.