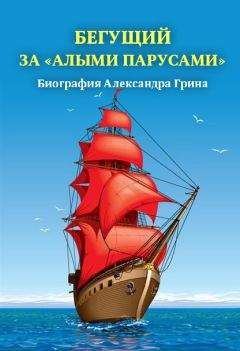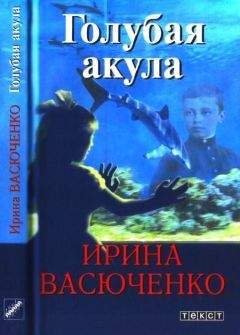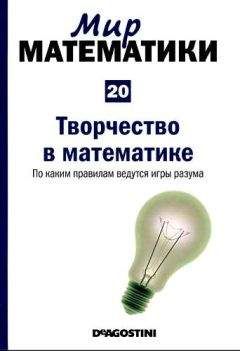Ирина Васюченко - Жизнь и творчество Александра Грина
«Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели — расти и давить», — есть доля истины в словах Галуэя, брошенных в лицо герою романа. Галуэй мерзавец, но в этом вопросе он смыслит больше Ганувера. Тот ведь попытался, утратив свою любовь, заполнить пустоту души строительством дворца, о котором они с Молли когда-то грезили, прячась в заброшенном сарае.
Герой использует могущество золота во имя осуществления их общей выдумки, ставшей для него «манией». Но сказочный дом, построенный без Молли, превращается в ловушку. Не зря его хозяйкой хочет стать Дигэ, блестящая и легкая, «как нож, поднятый для удара». Потому что это роман о подмене судьбы. Вместо воздушного замка, где обитало счастье, строится каменный, среди фантастических залов которого кучка негодяев готовит смерть его владельцу. И сокровище, найденное на морском дне, вместо того чтобы дать Гануверу крылья, оборачивается «золотой змеей» и медленно душит его.
При всем том считать «Золотую цепь» романом о пагубности богатства так же смешно, как утверждать, будто рассказ «Борьба со смертью» посвящен проповеди алкоголизма. Ганувер разбогател и погиб, смертельно больной Лорх напился и выздоровел, однако автора в обоих случаях интересует не роль золота и коньяка в судьбе героев, а соотношение в ней свободного выбора и предопределенности. Иными словами, все та же схватка человеческой воли и рока.
Это одна из основных тем в творчестве Грина. Можно, увлекшись невероятными сюжетами, пробежать собрание его сочинений от первой до последней страницы, так этого и не заметив, но для того, кто зорок, все по-другому. Приключения, о которых повествует рассказчик столь искусный, не перестают занимать его. Но за пестротой образов и событий он чувствует движение упорной мысли в поисках сути вечных — и вечно ускользающих — вопросов. Они небезболезненно касаются основ жизни каждого из нас, независимо от того, готовы ли мы признать их своими и встретить лицом к лицу.
Выше я позволила себе назвать Грина агностиком. Допустимо ли это по отношению к автору, настолько сосредоточенному на проблемах духа? Что-что, а уж это вне всякого сомнения идет от христианской традиции. Верно: определение не блещет точностью, тем паче, что в жизни Александр Степанович был православным. Но что делать? Мы опять вступаем в область, где все слишком зыбко: в гриновском мире, где человек то летает по воздуху или бегает по волнам, а то вдруг петербургская мостовая предательски разверзается у него под ногами, от зыбкости никуда не деться…
Был такой случай. Еще в юности, на солдатской службе, будущий писатель однажды на исповеди признался священнику, что сомневается в бытии Божием. А тот поспешил донести начальству о вольнодумстве рядового Гриневского. Хотя, если разобраться, в этой истории именно солдат поступил, как верующий, открывшись исповеднику. Зато поп действовал, как чиновник, состоящий на службе не у небесных, а у земных властей.
К несчастью, он не был исключением. Православная церковь еще с петровских времен самым прискорбным образом смешивала эти понятия. Считалось, что государственные интересы оправдывают нарушение тайны исповеди. Это страшно роняло авторитет церкви в глазах мыслящей части общества. Легко представить, что происходило в сердцах тех, кто, доверившись «духовному отцу», имел потом дело с майором, как рядовой Гриневский, или жандармерией, как случалось с иными.
Нет, религиозным в церковном понимании Грина не назовешь. Его герои превыше всех благ ценят право самим выбирать свой путь. Так называемый горний промысел враждебен им почти так же, как дезертиру Тарту их рассказа «Остров Рено» — капитанское мнение, что матрос, хочет не хочет, должен нести службу. Им не надо начальства. Ни небесного, ни земного.
Большинству из них чужда и мораль, если понимать ее как систему предписаний и запретов, налагаемых на человека обществом, церковными или правовыми догмами. Впрочем, литература начала века вообще охотно демонстрировала пренебрежение к морали. Часто это выглядело кокетливой позой, дерзкая новизна которой щекотала нервы современников.
Я много лгал и лицемерил
И сотворил я много зла,
— хвалился В.Брюсов, признанный столп литературной моды. -
Тех обманул я, тех обидел,
Тех погубил — пусть вопиют!
Но я искал, и это видел
Тот, кто один мне правый суд!
Легковесность брюсовских пассажей забавна. У Блока, Сологуба, Бальмонта можно отыскать кое-что и похлеще. Помнится, в школьные годы мне нравилось смущать такими цитатами учителей и одноклассников. Но стоит полистать хотя бы мемуары тех лет, чтобы убедиться, что все не так смешно. Мода на имморализм не обошлась без жертв. Не только в стихах, но и в действительности прослыть вероломным, стать причиной чьего-то отчаяния и погибели было в ту пору соблазнительно, как никогда. Многие старались. И, как водится, не без успеха.
Что до Грина, он к лаврам подобного сорта никогда не стремился. И у его героев проблемы другие. Большинство из них, пожалуй, согласились бы, что все дозволено. Однако признали бы и справедливость известной оговорки Камю: «но это не значит, что ничего не запретно».
Не стоит принимать это за пустую игру слов: здесь есть смысл, и серьезный. Свобода нравственного выбора ко многому обязывает. Презреть общепринятую мораль для мыслящего человека значит сознательно взять на себя всю ту ответственность, какую конформист привык валить на общество, среду, эпоху: «Я — что? Я как все…»
Грину по большей части интересны люди, чьи поступки осознанны. Им присуща, если можно так выразиться, абсолютная этическая вменяемость. Они могут благородно жертвовать собой, как Ральф в «Словоохотливом домовом», или развлекаться «безмерными, утонченными злодействами» подобно Авелю Хоггею из рассказа «Пропавшее солнце», но, как правило, полностью отдают себе отчет в том, что делают.
Когда здесь возникают этические запреты, они исходят не от общества, а из глубины души, отвергающей зло. Не от «страха Божия», а от совести героя. Иногда также от гордыни или обостренного ощущения уродства, нестерпимой пошлости зла, ибо гриновские персонажи, как и пристало детищам серебряного века, сплошь эстеты. Мир, окружающий героя, может быть сколь угодно загадочным, судьба — каверзной, душа — сложной, но этическая позиция ясна и отчетлива. Можно сказать, что любая ее деталь до блеска отшлифована рефлексией.
Редкостная прозрачность и чистота нравственной атмосферы, свойственная прозе Грина, не от неведения темных сторон бытия. Напротив: оттого, что автор смотрит на них с высоты, достигнутой бесстрашной мыслью. Как всякая высота, она холодна, и у читателя может возникнуть легкое головокружение, как от разреженного воздуха гор.