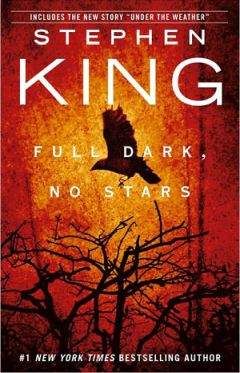Виталий Шенталинский - Свой среди своих. Савинков на Лубянке
Журналисты увидели элегантно меблированную комнату, с большим бюро красного дерева и диваном, покрытым голубым шелком. На стенах — картины, паркетный пол укрывает толстый ковер. На столе — стопка исписанных листков и сочинения Ленина. Великий конспиратор был свежевыбрит и надушен — его только что покинул парикмахер — и держался как какой-нибудь радушный, вальяжный барин, принимающий гостей. Не жаловался: еды достаточно, разрешают курить, читать по собственному выбору. Ежедневная прогулка по 45 минут. Даже слегка пополнел, прибавил весу. Правда, вот комната темновата, приходится и днем сидеть при электричестве — глаза устают… Но ведь не курорт!
На вопросы журналистов он отвечал моментально, с тактом, на русском и на французском с одинаковой легкостью.
— Почему вы вернулись в Россию?
— Я предпочитаю сидеть в тюрьме «чрезвычайки», нежели чем бегать по мостовым в Западной Европе.
Что это — бравада или подлинное мужество? — спрашивали себя журналисты. Восхищаясь и сочувствуя, они видели в нем сразу и отважного борца, и блестящего писателя и избегали задавать такие вопросы, которые поставили бы его в трудное положение в присутствии охранников.
К общему огорчению, один француз нарушил этикет:
— Скажите, те ужасы, в которых обвиняют Лубянку, — это правда?
Савинков на мгновенье замялся:
— Что касается меня, это неточно…
Американский корреспондент Вильям Ресвик описал эту сцену так:
«Я посмотрел на Трилиссера. Его темные глаза сверкнули. Узник, как и все присутствующие, не мог не заметить неприятного впечатления, произведенного на чекиста словами «что касается меня…». Тем временем Савинков продолжал говорить как свободный человек, пока Трилиссер не бросил: «Пора! Время!» От этих слов Савинков побледнел. Он улыбался, провожая нас к двери, но то уже была принужденная улыбка…»
Да, ужасы Лубянки в полной мере Савинкова не коснулись — лишь потому, что это не входило в планы ее хозяев. Но шила в мешке не утаишь — и что-то время от времени бросалось в глаза, зловещей нотой вспарывало тишину.
Из дневника Савинкова:
«Однажды в марте — выстрел. Потом стоны. Потом молчание. Л. Е. бледна, как полотенце. Сосновский говорит: «Надзиратель случайно выстрелил в себя».
— ?»
Вскоре после визита иностранцев разразился скандал, надолго выбивший Савинкова, и так ходившего по проволоке, из равновесия.
Мировую печать вдруг облетела сенсация, будто супруги Деренталь с самого начала были в сговоре с ОГПУ и помогли затащить своего высокого друга на Лубянку. Это сообщение, видимо, стоило Любови Ефимовне многих слез. Савинков пришел в ярость. Свидетельство тому — два неизвестных письма от 31 марта, хранящихся в его досье.
Первое адресовано писателю-эмигранту Дмитрию Философову, главе Варшавского комитета савинковского «Союза»:
«Господин Философов,
когда я был арестован, Вы написали статью «Предатели», в которой утверждали, что я тайно сговорился с большевиками еще в Париже, то есть обманул своих друзей. Узнав подробности моего ареста, то есть убедившись, что оклеветали меня, Вы не нашли нужным клевету свою опровергнуть.
Ныне Вы, один из редакторов «За Свободу», напечатали статью Арцыбашева «Записки писателя, XLVIII», которая содержит обвинение Любови Ефимовне и Александру Аркадьевичу в том, что они меня предали. Вы, господин Философов, не можете не знать, что это ложь и что Любовь Ефимовна и Александр Аркадьевич разделили со мной мою участь. Значит, Вы сознательно приняли участие в новой, еще худшей клевете. Политическая ненависть не оправдывает такого рода поступков. Как они именуются — Вы знаете сами. Рано или поздно Александр Аркадьевич и я с Вами сочтемся. Вы предупреждены».
Второй вызов на дуэль, еще более резкий, адресован самому Михаилу Арцыбашеву:
«Господин Арцыбашев,
Вы напечатали в «За Свободу» статью «Записки писателя, XLVIII». Вы пишете о людях, которых видели, по собственному признанию, один раз в жизни, и награждаете их разными качествами по своему усмотрению. Едва ли это достойно Вас. Но Вы не ограничиваетесь этим: Вы обвиняете Л. Е. Деренталь и А. А. Деренталь в том, что они предали меня.
Чтобы обвинить кого-либо, да еще печатно, в предательстве, надо иметь неопровержимые доказательства. [У Вас их нет, и Вы знаете, что и быть не может, ибо Вы сознательно лжете. Лжецов бьют по лицу. Буду жив, ударю.]
Я, которого, по Вашим словам, Л. Е. Деренталь и А. А. Деренталь предали, утверждаю, что у Вас никаких доказательств нет и быть не может. Вы оклеветали единственных людей, которые не побоялись разделить со мной мою участь. Судите сами о Вашем поступке».
Откуда же взялась эта сенсация и кому была нужна?
Подоплеку происшедшего раскрывает все тот же американец Вильям Ресвик, посетивший Савинкова в тюрьме. После этого визита, рассказывает он, его пригласил к себе помощник Дзержинского Генрих Ягода. Сначала с жаром говорил о «своих» беспризорных детях, которых милиция собирает на улицах, о благородной задаче их перевоспитания, но вскоре свернул на Савинкова. Ягода, не без профессиональной гордости, поведал, что того заманили в Россию благодаря одной очень красивой женщине, работающей на ГПУ. Но эта сотрудница имела несчастье влюбиться в него и создала органам проблему — потребовала провести несколько ночей на Лубянке. В конце концов пришлось разрешить… Вот до какого гуманизма дошел советский режим, предпочитающий тюрьмы без решеток!..
Ягода, конечно, знал, что назавтра же его визави раззвонит об услышанном на весь мир, — для того и приглашал. Расчет был точен: еще раз показать всесильность ОГПУ и продажность его противников, перессорить их между собой, скомпрометировать Деренталей перед лицом заграницы и тем самым отсечь их от нее, и главное — этим отвлекающим маневром, этой отравленной дезой отвлечь внимание от подлинных своих агентов, которые продолжали служить ОГПУ, скрыть механику тайной войны с зарубежными врагами — войны, которая не прекращалась ни на минуту.
Черная тетрадь
«9 апреля.
Сегодня освободили Л. Е. Я остался один. В опустелой камере стало грустно…»
Вся его кипучая борьба, последняя авантюра перехода границы, отчаянные метания перед судом, суд и приговор — все осталось далеко позади. Жизнь как бы замедлила скорость, будто совсем остановилась, когда ушла Любовь Ефимовна.
Савинков остался один на один с самим собой. События совершались только в его сознании, все более утрачивая новизну и реальную осязаемость. Мучительный самоанализ, самокопание — и все больше разочарований.