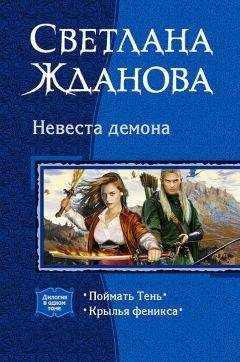Борис Соколов - Арманд и Крупская: женщины вождя
Как видим, напряженную работу удавалось вполне органично сочетать с отдыхом, с почти туристским образом жизни. Впрочем, Ульянова и Крупскую мало интересовала история и культура тех стран, где они жили. Даже в театр так и не собрались. Ведь думали-то они все больше о России. Вот природу баварскую и швейцарскую, чувствуется, любили. Владимир Ильич, по словам хорошо знавшего его в эмиграции Валентинова, был приверженцем точного расписания дня — «время сна, работы, еды, отдыха, прогулок». Последние он с удовольствием описывал в посланиях матери. Так, в сентябре 1901 года сообщал из Мюнхена: «Теперь здесь получше стала погода, после довольно долгого ненастья, и мы пользуемся временем для всяких прогулок по красивым окрестностям: раз не удалось уехать куда-нибудь на лето, так хоть так надо пользоваться!»
Нельзя сказать, что супруги в эмиграции маялись от безделья, но не вызывает сомнения, что переписка, споры с товарищами по партии и работа над статьями и рефератами оставляли вполне достаточный досуг для приятного времяпрепровождения. Летом же они старались выбраться куда-нибудь на природу. А когда приехали в Лондон осенью 1902 года готовить II съезд РСДРП, то, как писал Ильич матери: «Мы с Надей уже не раз отправлялись искать — и находили — хорошие пригороды с «настоящей природой». Надежда Константиновна в свою очередь вспоминала: «Мы во время эмиграции жили с Владимиром Ильичом в Лондоне. К нам приходил один товарищ, которым была написана прекрасная… книжка по английскому рабочему движению. Если он приходил и не заставал Владимира Ильича, он начинал со мной говорить на «женские» темы: скверно жить одному, как собака живешь, белье не стирано, хозяйство плохо, надо-де ему жениться, взять хозяйку в дом».
Ленин и Крупская подобной «обывательщины» не допускали и домашним хозяйством почти не занимались, взвалив его на плечи Елизаветы Васильевны. Даже когда ленинская теща хворала, посуду все же мыла она, а не ее дочь, у которой все из рук валилось. Надя матери сочувствовала: «…возня с мытьем посуды… здоровому человеку не беда, но больному плохо». Кулинарные же способности Крупской даже у близких людей отбивали аппетит. Как-то ей пришлось в отсутствие Елизаветы Васильевны потчевать обедом ленинского зятя Марка Елизарова, мужа сестры Анны. Он попробовал и с тоской сказал: «Лучше бы вы «Машу» (т. е. прислугу. — Б. С.) какую завели». Когда теща в 1915 году умерла, пришлось супругам до самого возвращения в Россию питаться в дешевых столовых. Надежда Константиновна признавалась, что после смерти матери «еще более студенческой стала наша семейная жизнь».
Сохранившиеся от первой эмиграции три ленинских письма к жене поражают своим исключительно деловым тоном, отсутствием каких-либо «сантиментов»: «Пожалуйста, не забудь: в моей аграрной статье есть цитата из Булгакова: т.? с.? Так нельзя оставить, и если я не приеду раньше и не увижу еще корректуры, то ты вычеркни не все примечание, а только эти слова…» И остальное в том же духе. Молодая страсть уже куда-то испарилась. Не уверен, были ли еще в ту пору между Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной интимные отношения. Друг друга они воспринимали в первую очередь как товарищей по партии, делающих одно общее дело. Окружающим эта работа была почти незаметна. Лишь Охранное отделение внимательно следило за деятельностью революционеров: эсеров, большевиков, меньшевиков, анархистов… Больше всего тревожили полицию и жандармерию эсеры своими дерзкими покушениями на высокопоставленных сановников. Большевики и меньшевики рассматривались как сравнительно безвредные теоретики, увязшие в бесконечных спорах на верандах парижских и женевских кафе. Их нелегальные газеты и брошюры поступали в Россию тоненьким ручейком и сами по себе не могли подточить устои самодержавия. Вероятно, большевики еще долго пребывали бы в эмигрантской безвестности. Но тут грянула революция 1905 года.
А что же происходило тем временем с Инессой Арманд? Она была пятью годами младше Крупской. Когда жена Ленина, имея уже десятилетний стаж революционной работы, помогала супругу разворачивать в Германии и Швейцарии русскую революционную газету «Искра», Инесса только-только вступила на революционный путь. Она устроила своего рода «революционный салон» в московской квартире Армандов. Историк Николай Михайлович Дружинин, посещавший в предреволюционном 1904 году вечера у Инессы, вспоминал: «Приглашались люди разного возраста, но только левого направления, революционных взглядов и настроения. Обстановка была непринужденной; беседы велись на политические темы. И тут же, по-видимому, намечали тех, кто мог бы содействовать партийной работе, или тех, кого можно вовлечь в партию».
В письмах Александру Арманду Инесса выражала свое скептическое отношение к попыткам либералов добиться реформы самодержавия. В октябре 1904 года она передала московские слухи о прошедшем в Петербурге съезде земских представителей: «Здесь ходит упорный слух, что они созваны для того, чтобы выработать конституцию. А другие уверяют, что хотя они и не для этого созваны, но все же будут обязательно ее требовать. Конституция, конечно, уже ходит по рукам. Между прочим, она прекуцая, учреждаются две палаты и т. п. прелести. Либералишки несчастные! Душа у них коротка!» Недавно приобщившейся к революционной марксистской вере молодой женщине, как когда-то Крупской, либеральная теория и практика «малых дел» казалась обывательски несерьезной, не достойной того, чтобы посвятить этому жизнь.
И тут же Инесса приводит любопытную историю, характеризующую плачевное состояние российской власти накануне революции: «По Москве ходит презабавный анекдот: одно московское высокопоставленное лицо (имена догадывайся сам, пожалуйста), найдя, что московское купечество слишком мало жертвует на нужды некоего учреждения (тоже прошу догадаться, какое), собрал главных золотых мешков Москвы и стал спрашивать их, почему они так мало жертвуют. Один из них, Морозов, встал и заявил, что в начале года он сделал большое пожертвование (40 тыс. одеял) и что через несколько времени его приказчики стали покупать их по дешевым ценам. После этого он, Морозов, решил больше ничего не жертвовать в данное учреждение. Высокопоставленное лицо страшно обиделось, и на другой день Морозов был призван к Крестикову (московскому полицеймейстеру. — Б. С.), который заявил ему, что арестовывает его. Морозов ответил: «Хорошо, только позвольте мне распорядиться относительно своих дел и по телефону переговорить с братом». Крестиков предоставил телефон. «Брат, — говорит по телефону Морозов, — меня арестовывают, ввиду этого я больше не могу заниматься своими делами и потому прошу тебя завтра же прекратить работу на всех моих фабриках». Крестиков, конечно, в ужасе (у Морозова не менее 16 тысяч рабочих), просит его отменить решение, но тот стоит на своем. Кончилось тем, что его отпустили».