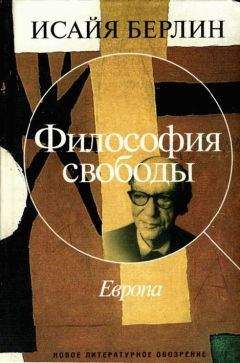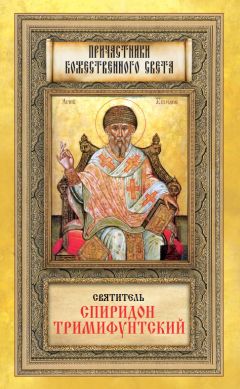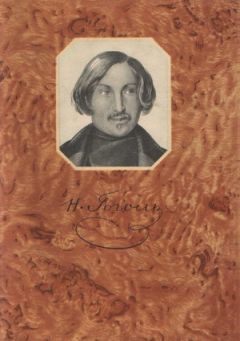Исайя Берлин - История свободы. Россия
Мучительные споры, бушевавшие в душе Белинского, сильно повлияли на его современников. Белинского за границей не читали; но великие русские прозаики, сформировавшиеся именно при нем, и более поздние проповедники социальных преобразований со временем оказали воздействие на западную мысль. Тут имело место явление, которое я назвал «эффектом бумеранга»; если его не учесть, история западной культуры будет неполной.
IVСудьбы сенсимонистского движения во Франции широко известны: некоторые из ближайших учеников его отца-основателя, вдохновленные идеей плановой централизованной индустриализации, стали преуспевающими банкирами и «железнодорожными королями», именно они организовали строительство Суэцкого и Панамского каналов. На основе доктрины Сен-Симона его ученик Огюст Конт создал позитивизм, который глубоко повлиял на марксизм, а также сказался на развитии других, более умеренных учений социалистов и радикалов второй половины века. Идеи сенсимонистов, распространяясь из вышеописанной точки, заняли свое место рядом с другими идеологическими течениями – консервативными, либеральными, монархистскими, марксистскими, клерикальными, антиклерикальными – и, по-разному комбинируясь с ними, образовали социальную, экономическую и интеллектуальную историю Второй империи и Третьей республики.
В России их последствия не столь бросались в глаза, но оказались более глубокими, поистине революционными. Сенсимонизм стал первой цельной идеологией, которую открыло для себя нравственно и умственно впечатлительное меньшинство, искавшее комплекс принципов, который мог бы послужить руководством к действию, – и тут отлично подошли идеи, изложенные в работах левых сенсимонистов: социалистических трактатах и статьях Пьера Леру и его единомышленников по «Ревю индепендан», яростных филиппиках против капитализма, что выходили из-под пера их верного ученика Ламенне, но прежде всего в социалистических романах Жорж Санд. Нравственный идеализм этого движения повлиял на Герцена, Белинского и их друзей, когда они были в самом впечатлительном возрасте, и, как бы разительно ни менялись потом их личные воззрения, этот гуманный и цивилизованный радикализм с его искренней ненавистью к социальному неравенству и жестокой эксплуатации слабых сильными неотступно владел их умами. И именно эту деятельность в ее организованных, институциализированных формах – на основе марксизма, на основе ли позитивизма – позднее высмеивал и обличал Достоевский, в молодости тоже подпавший под влияние более ограниченной, но в социальном плане еще более радикальной доктрины Фурье.
Я вовсе не хочу сказать, что если бы Герцен и его друзья не прочли Сен-Симона, либо если бы Белинский с Тургеневым в самый подходящий момент не прочли Жорж Санд, либо если бы в Россию не ввозили контрабандой трактаты Пьера Леру, Луи Блана или, если уж на то пошло, Фурье и Фейербаха, то в 40-х годах XIX века не было бы никакого общественного недовольства, никаких кающихся дворян, а в 60-х – никаких заговоров, репрессий и, хотя бы в зачатке, организованного революционного движения. Такое утверждение нелепо. Мне просто хочется отметить, что русская мысль и литература приобрели известные нам формы прежде всего благодаря влиянию, оказанному на конкретные слои русского общества 30–40-х годов XIX века данными французскими доктринами и возникшими на их основе дискуссиями – особенно теми, что касались искусства. Не знаю, была ли это прямая причинно-следственная связь или просто благоприятное стечение обстоятельств, в любом случае именно сенсимонистская закваска и вызванное ею противодействие указали Герцену и Белинскому направление, которому оба они остались верны до конца. Процесс, в течение которого это конкретное семя было заронено в ту необыкновенно плодородную почву, которую являли собой молодые русские интеллигенты, взыскующие идеалов, сыграл, как мне хочется верить, более значимую, чем принято считать, роль в развитии русского либерализма и русского радикализма, как умеренного, так и революционного. Отсюда естественно следует, что доктрина эта должна была буквально преобразить главную фигуру этого периода – Белинского, являвшего собой ярчайший, беспримерный образец обеспокоенного нравственными вопросами литератора; сила его влияния (о которой равно свидетельствуют популярность его идей и сопротивление им) на мысль и дело в его родной стране, а затем и в остальном мире кажется мне доселе недооцененной по достоинству.
Таков мой первый тезис. Я хотел бы дополнить его вторым, а именно подчеркнуть, что ни Белинский, ни кто-либо из его друзей ни разу не поддались искушению той привычной для нас идеи, будто искусство, и в особенности литература, не может состояться как искусство, если оно не выполняет прямую социальную функцию – не становится оружием в борьбе прогрессивной части человечества. Как близко ни подходил бы порой Белинский к этой мысли, требуя, чтобы искусство забыло приличествующие ему задачи и обслуживало посторонние потребности, он никогда не путал искусство с нравоучением и тем более с пропагандой в любой форме. В этом смысле Чернышевский и Добролюбов, Плеханов и советские толкователи, взявшие у Белинского только то, что им было нужно, исказили его образ.
Возможно, еще более поучительна история его друга и в некотором роде ученика – Ивана Сергеевича Тургенева. Изо всех русских прозаиков, пожалуй, именно Тургенев наиболее близок к западному идеалу чистого художника. Если он и пронес сквозь свою жизнь какое-либо твердое убеждение, это была вера, что искусство в наивысшей его форме не проводник сознательных воззрений художника, но что-то вроде «отрицательной способности», как у Шекспира, которого Шиллер назвал богом, сокрытым за своими собственными творениями и реализовавшим себя через эти творения, чья цель – они сами. Главной причиной нелюбви Тургенева к Чернышевскому (помимо того факта, что Чернышевский вызывал у него брезгливое презрение как человек и критик) были настойчивые утилитаристские призывы подчинить искусство политике, науке, этике, поскольку искусству прежде всего приличествует действие – преобразование общества, сотворение нового человека. Когда Тургенев заставляет Рудина сказать: «Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? как может он знать, что он должен сам делать, если…»[58] – это говорит не автор, а Бакунин или какой-то другой типичный русский радикал 40-х годов. У Тургенева голос совсем другой. Самая сущность его натуры, как мне кажется, лучше всего выражена в его словах из письма к Полине Виардо от 1848 года: