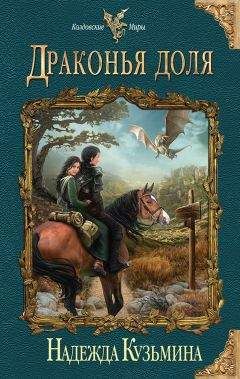Софи Аскиноф - Московские французы в 1812 году. От московского пожара до Березины
«К сожалению, проявления симпатии к нам были недолгими, и очень скоро мы стали предметом враждебных проявлений, которые, непрямые и робкие поначалу, скоро превратились в настоящие преследования, – говорил Домерг. – Эта неприязнь русских к имени французов набирала силу постепенно; она проявлялась уже в 1810 году. Импульс, исходивший из Санкт-Петербурга, быстро почувствовался в Москве, а оттуда распространился по всей территории империи. Поворот в политике произвел перемены в нашем положении. […] День ото дня национальная ненависть против наглых захватчиков становилась все более глубокой. Имя французов было всеми ненавидимо. […] Во французском театре хватались, как в предыдущие годы, с тем же и даже большим пылом за любое обстоятельство, за всякий намек, благоприятствующий тому, чтобы заклеймить нас презрением или выставить на посмешище. Хотя я был еще очень молод и никоим образом не вмешивался в политику, эти все возрастающие проявления ненависти к моей родине больно задевали меня. Пьесы же, в которых французы представали героями, вызывали неодобрительный ропот и оскорбительные выкрики зрителей. Скоро пришлось удалить из репертуара все пьесы, в которых имелись персонажи-французы, чтобы не провоцировать скандал и не задевать национальную гордость. От этого экзальтированного дворянства политический фанатизм незаметно распространился на рабов и даже проник в ряды армии. […] В тот момент когда смена посла оставляла нас без поддержки или осложнения в европейской политике не позволяли оскорблять нас, нам досаждали бесчисленными мелкими придирками. Наши пьесы, какими бы они ни были, подвергались строгой цензуре, и г-н Майков, директор императорских театров, по своему произволу использовал полномочия, каковые ему давала эта должность. Он затевал ссоры с нашими артистами, чтобы получить предлог для принятия мер против них, а когда они справедливо возмущались этими отвратительными приемами, он довольно глупо обзывал их якобинцами. Вот такие унижения нам приходилось терпеть. Когда же позднее генерал Ростопчин сменил графа Гудовича в должности московского губернатора, эти унижения перешли в тяжкие оскорбления. Г-н Майков отличался от числа прочих упорством, с которым он преследовал нас своей местью. Этот выскочка, из тех, кого настоящее дворянство презрительно именовало «человечишко», выказал себя самым рьяным в преследовании. Однажды возникшая из спора по незначительному поводу ссора, приключившаяся между камергером, г-ном Майковым и мною, приобрела такую степень горячности, что от бурной дискуссии мы скоро перешли к действиям. Из-за этой провинности я был препровожден в полицию, а оттуда – в театральную тюрьму. Свободное время, выдавшееся в заточении, я употребил на то, чтобы сложить об этом приключении песенку, которую намеревался отправить директору и распространить по городу, но г-н Ивашкин, московский полицмейстер, чей мягкий и доброжелательный характер контрастировал с грубостью г-на Майкова, отговорил меня от сего проекта, напомнив мне о вспыльчивости и влиянии моего противника. Однако, поскольку распространился слух, будто я готовлю обличительное сочинение против камергера, тот прислал ко мне своего эмиссара с предложением отпустить меня на свободу при условии, что я ничего против него не напишу. Я принял условия этого соглашения и был освобожден […]». Однако на этом дело не закончилось. «Через несколько дней после моего выхода из тюрьмы, – продолжал A. Домерг, – когда я работал ночью в своем кабинете, находившемся на первом этаже, камень, брошенный в окно, задел мою голову и с силой ударился в стену напротив.
Князь Ростопчин
Все мои попытки догнать убегающего виновника оказались тщетными. Это обстоятельство открыло мне, каким опасностям я могу подвергаться. Наконец, после всех этих преследований, дирекция императорских театров сообщила нам, что французский театр не будет сохранен.
Война между Францией и Россией казалась неотвратимой. Неприязнь к французам стала популярной. Эта ненависть подпитывалась статьями одного французского эмигранта, который издавал в Санкт-Петербурге газету «Северная пчела»87, полную самых грубых оскорблений в адрес Наполеона. Само дворянство и лучшее общество аплодировали этим отвратительным диатрибам».
Это объемное свидетельство А. Домерга многое нам сообщает о давлении, испытываемом французской колонией в Москве накануне 1812 года. Под угрозами и под воздействием страха французы молчали или, по меньшей мере, вели себя чрезмерно осторожно. Если первое время еще можно было надеяться на успокоение умов, теперь уже мало кто в это верил. Совсем наоборот. Каждый новый день свидетельствовал об ухудшении ситуации. Русские в целом относились к Наполеону негативно, чтобы не сказать с ненавистью. Многие надеялись на его скорый конец и крах наполеоновской империи. Рассказывали даже, будто в русских избах устраивали традиционные сеансы ворожбы с протыканием иглой фигурки, дабы ускорить это событие. Но французский император находился на вершине славы и не останавливался ни перед чем в своих амбициях. Вследствие этого угроза войны между двумя странами возрастала, а с ней – угроза нашествия мощной наполеоновской армии. Многие природные явления понимались в этом смысле: комета, которую видели в небе в 1811 году, или ураган, сваливший конную статую Петра Великого, установленную на куполе здания сената. Оба эти инцидента истолковывались как дурные приметы. Они беспокоили и суеверных русских, и обосновавшихся в Москве французов. Арман Домерг запрещал себе верить во все это. Но и он не мог забыть, что последний спектакль Французского театра в новом здании закончился в пламени случайно возникшего пожара. Сюжет представляемой пьесы Д. Кашина – пожар, и пламя в тот день пожрало практически весь театр. Зловещее предзнаменование для труппы! «Хотя и не веря во все эти дурные знаки, – писал он, – я, тем не менее, счел благоразумным не дожидаться развития событий и, освободившись от всех своих обязательств перед дирекцией императорских театров, обратился в соответствии с правилами с просьбой о выдаче мне паспорта для возвращения во Францию, ибо вдали от столицы просьба эта сопряжена с бесконечными формальностями». Для него все было ясно, он предпочитал уехать, пока ситуация не испортилась окончательно. После трех месяцев ожидания он получил отказ. «Потеряв всякую надежду получить разрешение вернуться на родину, – писал он, – я не знал, чем занять себя в своей праздности. Всякие наши связи с русским обществом разом оборвались. Дворяне, предвосхищая разрыв договоров, умножали унижения и даже пускали в ход кулаки против французов, учивших их детей. Такие методы, подхваченные учениками и даже прислугой, делали положение тех шатким». Итак, все чувствовали, что война на пороге, несмотря на то что Наполеон и Александр окружали свои военные приготовления строжайшей тайной. Но для кого это по-настоящему оставалось тайной? Уж точно не для московских французов…