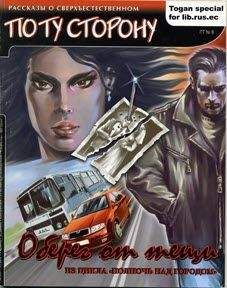Сергей Аксаков - Воспоминания (Семейная хроника 3)
В таких-то приятных суетах и хлопотах прошли первые две недели после нашего приезда в Аксаково. Нечего и говорить, как была счастлива моя мать, видя меня веселым, бодрым и, по-видимому, здоровым. Она еще в Казани взяла свои меры, чтоб не пропало в совершенной праздности время моей деревенской жизни, и запаслась учебными гимназическими книжками. Постоянно думая, что если я, по милости божией, поправлюсь здоровьем, может быть, через год, то все же надобно будет представить меня опять в гимназию, — она назначила мне от двух до трех часов в день для повторения всего, чему я учился, для занятия чистописанием и чтением ей вслух разных книг, приличных моему возрасту. Я исполнял это очень охотно, и деревенские удовольствия становились для меня еще приятнее после занятий. Я принялся также доучивать мою милую ученицу, маленького моего друга, мою сестрицу, и на этот раз с совершенным успехом.
Я уже сказал, что, по-видимому, казался здоровым, но на деле вышло не совсем так. Правда, по выходе из гимназии не было у меня ни одного припадка, дорогой даже прошли стеснения и биения сердца и в деревне не возобновлялись; но я стал каждую ночь бредить во сне более, сильнее обыкновенного. Сначала мать моя не придавала этому бреду никакой значительности, все приписывая излишнему беганью и живости детских впечатлений, тем более что до поступления в гимназию я часто грезил, чему подвержены бывают многие дети. Но теперь это начало принимать мало-помалу другой характер. Во-первых, я стал бредить постоянно всякую ночь очень сильно, иногда по нескольку раз. Во-вторых, я стал не только говорить во сне, но вскакивать с постели, плакать, рыдать и выбегать в другие комнаты. Я спал вместе с отцом и матерью в их спальной, и кроватка моя стояла возле их кровати; дверь стали запирать изнутри на крючок, и позади ее в коридорчике спала ключница Пелагея, для того чтобы убежать сонному не было мне никакой возможности. Ночной бред, усиливаясь день ото дня, или, правильнее сказать, ночь от ночи, обозначился, наконец, очевидным сходством с теми припадками, которым в гимназии я подвергался только в продолжение дня; я так же плакал, рыдал и впадал в беспамятство, которое переходило в обыкновенный крепкий сон. Но эти ночные новые припадки были гораздо сильнее и страшнее прежних денных припадков и проявлялись с большим разнообразием. Иногда это был тихий плач и рыданья, всегда с прижатыми к груди руками, с невнятным шепотом каких-то слов, продолжавшиеся целые часы и переходившие в бешенство и судорожные движения, если меня начинали будить, чего впоследствии никогда не делали; утомившись от слез и рыданий, я засыпал уже сном спокойным; но большого труда стоило, особенно сначала, чтоб окружающие могли вытерпеть такое жалкое зрелище, не попробовав меня разбудить и помочь мне хоть чем-нибудь. Мне рассказывали после, что не только мать, которая невыразимо терзалась, глядя на меня, но и отец, тетка и все, кто около меня были, сами надрывались от слез, смотря на мои мучительные слезы и рыданья. — Иногда я вдруг вскакивал на ноги с пронзительным криком, дико глядел во все глаза и, беспрестанно повторяя: «Пустите меня, дальше, прочь, мне нельзя, не могу, где он, куда идти!» — и тому подобные отрывистые, ничего не объясняющие слова, — я бросался к двери, к окну или в углы комнаты, стараясь пробиться куда-то, стуча руками и ногами в стену. В это время у меня была такая сила, что двое и трое не могли удержать меня, и я, обливаясь потом, таскал их по комнате. Этого роду припадок всегда оканчивался сильным обмороком, в продолжение которого трудно было заметить, что я дышу; обморок переходил постепенно в сон, сначала несколько беспокойный, но потом глубокий и тихий, продолжавшийся иногда часов до девяти утра. После тихих слез и рыданий я просыпался бодрый и живой, как будто всю ночь проспал спокойно; но после исступленного вскакивания и какого-то бешенства я бывал несколько слаб, бледен, как будто утомлен; впрочем, все это скоро проходило, и я целый день весело учился, бегал и предавался своим охотам. Проснувшись, я ничего ясно не помнил: иногда смутно представлялось мне, что я видел во сне что-то навалившееся и душившее меня или видел страшилищ, которые за мной гонялись; иногда усилия меня державших людей, невольно повторявших ласковые слова, которыми уговаривали меня лечь на постель и успокоиться, как будто пробуждали меня на мгновение к действительности, и потом совсем проснувшись поутру, я вспоминал, что ночью от чего-то просыпался, что около меня стояли мать, отец и другие, что в кустах под окнами пели соловьи и кричали коростели за рекою. Мать моя не знала, что и делать; особенно пугало ее то, что во время обморока показывались у меня на лице судорожные подергиванья и пена на губах, признак зловещий. Мысль, что это может быть в самом деле падучая болезнь, задолго пропророченная Евсеичем в его письме, — приводила ее в ужас. Капли, предписанные Бенисом, она перестала давать; кровочистительного декокта, полученного из казенной аптеки, вовсе не употребляла, хотя Бенис советовал попить его, подозревая во мне золотуху, которой никогда не бывало. Мать позволила мне купаться в реке, думая, что купанье может укрепить меня: оно мне очень нравилось, но пользы не приносило. Мать обратилась к Бенису и так мастерски написала историю моей болезни, что доктор пришел в восхищение от ее описания, благодарил за него, прислал мне чай и пилюли и назначил диету. Все исполняли с большой точностью, но облегчения болезни не было; напротив, припадки становились упорнее, а я слабее. Чай и пилюли бросили, принялись за докторов простонародных, за знахарей и знахарок. Все говорили, что дитя испорчено, что мне попритчилось; умывали, обливали, окуривали меня — все без успеха. Я совсем не против народной медицины и верю ей, особенно в соединении с магнетизмом; я давно отрекся от презрительного взгляда, с которым многие смотрят на нее с высоты своего просвещения и учености; я видел столько поразительных и убедительных случаев, что не могу сомневаться в действительности многих народных средств; но мне тогда не помогли они, может быть оттого, что не попадали на мою болезнь, а может быть и потому, что мать не согласилась давать мне лекарства внутрь. Помню, однако, что я долго принимал, по совету одной соседки, папоротник в порошке, для чего употреблялись самые молоденькие побеги его, выходящие, наподобие гребешка, непосредственно из корня, между большими прорезными листьями или ветвями этого растения. Папоротник также не помог. Наконец, обратились к самому известному лекарству, которое было в большом употреблении у нас в доме еще при дедушке и бабушке, но на которое мать моя смотрела с предубеждением и до этих пор не хотела о нем слышать, хотя тетка давно предлагала его. Это лекарство называлось «припадочные, или росные, капли», потому что росный ладан составлял главное их основание; их клали по десять капель на полрюмки воды, и вода белела, как молоко. Число капель ежедневно прибавлялось по две и доводилось до двадцати пяти на один прием, всегда на ночь. Мне начали их давать, и с первого приема мне стало лучше; через месяц болезнь совершенно прошла и никогда уже не возвращалась. Когда довели до двадцати пяти капель, то стали убавлять по две капли и кончили десятью; я не переставал купаться и не держал ни малейшей диеты. Сколько было бы шуму, если б так чудотворно вылечил меня какой-нибудь славный доктор! Отдохнула моя бедная мать, и отец, и все меня окружающие, особенно ключница Пелагея, которая постоянно возилась со мной во время припадков, сказывала сказки мне с вечера и продолжала их даже тогда, когда я спал; мать моя была так обрадована, как будто в другой раз взяла меня из гимназии. — Вот как часто ищем мы исцеления вдалеке, когда оно давно находится у нас в руках. — Возвращаюсь несколько назад.