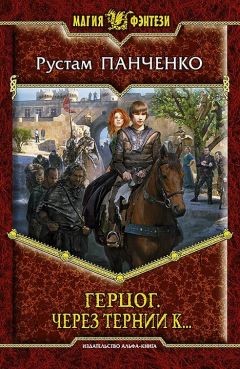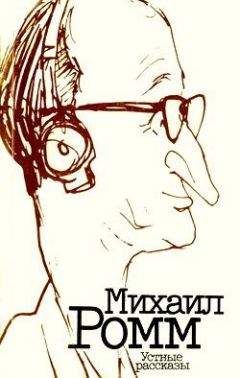Иван Киреевский - Разум на пути к Истине
Вопрос обыкновенно предлагается таким образом: прежняя Россия, в которой порядок вещей слагался из собственных ее элементов, была ли лучше или хуже теперешней России, где порядок вещей подчинен преобладанию элемента западного? Если прежняя России была лучше теперешней, говорят обыкновенно, то надобно желать возвратить старое, исключительно русское, и уничтожить западное, искажающее русскую особенность; если же прежняя Россия была хуже, то надобно стараться вводить все западное и истреблять особенность русскую[1].
Силлогизм[2], мне кажется, не совсем верный. Если старое было лучше теперешнего, из этого еще не следует, чтобы оно было лучше теперь. Что годилось в одно время, при одних обстоятельствах, может не годиться в другое, при других обстоятельствах. Если же старое было хуже, то из этого также не следует, чтобы его элементы не могли сами собой развиться во что-нибудь лучшее, если бы только развитие это не было остановлено насильственным введением элемента чужого. Молодой дуб, конечно, ниже однолетней с ним ракиты, которая видна издалека, рано дает тень, рано кажется деревом и годится на дрова. Но вы, конечно, не услужите дубу тем, что привьете к нему ракиту.
Таким образом, и самый вопрос предложен неудовлетворительно. Вместо того чтобы спрашивать, лучше ли была прежняя Россия, — полезнее, кажется, спросить: нужно ли для улучшения нашей жизни теперь возвращение к старому русскому, или нужно развитие элемента западного, ему противоположного?
Рассмотрим, какую пользу мы можем извлечь из решения этого вопроса.
Положим, что вследствие беспристрастных изысканий мы убедимся, что для нас особенно полезно бы было исключительное преобладание одного из двух противоположных бытов; положим притом, что мы находимся в возможности иметь самое сильное влияние на судьбу России, — то и тогда мы не могли бы от всех усилий наших ожидать исключительного преобладания одного из противоположных элементов, потому именно, что хотя и один избран в нашей теории, но другой вместе с ним существует в действительности. Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и т. п., но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь какою-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет? Можем ли мы не знать того, что знаем, забыть все, что умеем? Еще менее можно думать, что 1000-летие русское может совершенно уничтожиться от влияния нового европейского. Потому сколько бы мы ни желали возвращения русского или введения западного быта, — но ни того, ни другого исключительно ожидать не можем, а поневоле должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть из взаимной борьбы двух враждующих начал.
Следовательно, и этот вид вопроса — который из двух элементов исключительно полезен теперь? — также предложен неправильно. Не в том дело: который из двух? Но в том: какое оба они должны получить направление, чтобы действовать благодетельно? Чего от взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?
Вот вопрос, как он существенно важен для каждого из нас: направление туда или сюда, а не приобретение того или другого.
Рассматривая основные начала жизни, образующие силы народности в России и на Западе, мы с первого взгляда открываем между ними одно очевидно общее: это христианство. Различие заключается в особенных видах христианства, в особенном направлении просвещения, в особенном смысле частного и народного быта. Откуда происходит общее, мы знаем, но откуда происходит различие и в чем заключается его характеристическая черта?
Два способа имеем мы для того, чтобы определить особенность Запада и России, и один из них должен служить поверкою другому. Мы можем или, восходя исторически к началу того или другого вида образованности, искать причину различия их в первых элементах, из которых они составились, или, рассматривая уже последующее развитие этих элементов, сравнивать самые результаты. И если найдется, что то же различие, какое мы заметим в элементах, окажется и в результатах их развития, тогда очевидно, что предположение наше верно, и, основываясь на нем, нам уже виднее будет, какие можно делать из него дальнейшие заключения. Три элемента легли основанием европейской образованности: римское христианство, мир необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, и классический мир древнего язычества[3].
Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся в наследие России, в сущности своей представляет торжество формального разума человека над всем, что внутри и вне его находится, — чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя и вне себя ничего не признающего и являющегося в двух свойственных ему видах — в виде формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности. Действие классицизма на образованность европейскую должно было соответствовать тому же характеру.
Но потому ли, что христиане на Западе поддались беззаконно влиянию классического мира, или случайно ересь сошлась с язычеством, но только Римская церковь в уклонении своем от Восточной отличается именно тем же торжеством рационализма над Преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом. Так вследствие этого внешнего силлогизма, выведенного из понятия о Божественном равенстве Отца и Сына, изменен догмат о Троице, в противность духовному смыслу и Преданию[4]; так вследствие другого силлогизма папа стал главою Церкви вместо Иисуса Христа, потом мирским властителем, наконец, непогрешаемым[5]; бытие Божие во всем христианстве доказывалось силлогизмом; вся совокупность веры опиралась на силлогистическую схоластику[6]; инквизиция, иезуитизм — одним словом, все особенности католицизма развились силою того же формального процесса разума, так что н самый протестантизм, который католики упрекают в рациональности, произошел прямо из рациональности католицизма[7]. В этом последнем торжестве формального разума над верою и Преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала, т. е. и Штрауса[8], и новую философию со всеми ее видами, и индустриализм как пружину общественной жизни, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии, и систему воспитания, ускоренную силою возбужденной зависти, и Гёте[9], венец новой поэзии, литературного Талейрана[10], меняющего свою красоту, как тот свои правительства, и Наполеона[11], и героя нового времени, идеал бездушного расчета, и материальное большинство, плод рациональной политики, и Лудвига Филиппа[12], последний результат таких надежд и таких дорогих опытов!