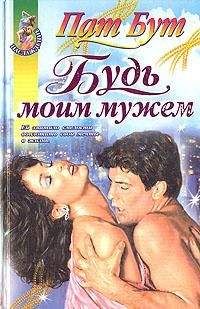Николай Ашукин - Брюсов
Пользуясь по-прежнему шкафом Брюсова, я одно время жил под знаком Байрона, а затем В. Гюго, и в эти дни наши дороги сходились, мы находили бесконечные темы для суждений, но как только я начинал говорить о Тургеневе, а особенно об Островском, пьесы которого прекрасно играли тогда в Москве в Малом театре и у Корша, Брюсов становился угрюм и желчен и всячески осуждал мои увлечения.
Чтение чужих произведений и обсуждение их заканчивалось чтением собственных творений. Последовательно знакомясь с творчеством друга, я видел, как в нем зрел романтический поэт. Его внимание влекло все героическое. Помню наш бесконечный спор о «типичности». Брюсов определял ее как «исключительность». Позже он развивал это в печати [35]. <…>
Новые литературные течения Запада, чуждые старшему поколению русских писателей, дошли, наконец, до нас. В «Русской мысли» появилась статья Н.К. Михайловского [36], новая редакция журнала «Северный вестник» открыла страницу для адептов новой школы [37]. На столе у Брюсова дедушка Крылов наблюдал появление книжек Бодлера, Малларме, Верлена, Метерлинка и журнала «La Plume». Брюсов был в восторге от творчества этих новаторов, и, когда я приходил к нему, он читал мне французские стихи, восхищаясь смелостью, оригинальностью, мастерством и инструментовкой стихов новых поэтов. Книги Верлена «Romances sans paroles» и «Les Poetes maudits» [38]; «Emaux et Camees» Т. Готье и «Les Fleurs du mal» [39] Бодлера не сходили у него с бюро (Станюкович В. С. 726, 729).
Влияние Пушкина и влияние «старших» символистов причудливо сочетались во мне, и я то искал классические строгости Пушкинского стиха, то мечтал о той новой свободе, какую обрели для поэзии новые французские поэты. В моих стихах того времени (не напечатанных) эти влияния перекрещиваются самым неожиданным образом (Автобиография. С. 107).
1892. Май, 16.
Ничто так не воскрешает меня, как дневник М. Башкирцевой. Она — это я сам, со всеми своими мыслями, убеждениями и мечтами. Башкирцева хоть могла сказать: «Каждый час, употребленный не на это (приближение к одной из своих целей и не на кокетство, — оно ведет к любви, ergo к замужеству), падает мне на голову, как тяжесть». Увы, мне нет этого утешения, и часы, потраченные на рисовку перед барышнями, потеряны для меня. А вот я провел в Голицыне 3 дня и не делал ничего.
А годы проходят, все лучшие годы…
Работать, писать, думать, изучать. Два дня буду работать с утра до вечера и вставать лишь затем, чтобы обдумать какую-нибудь фразу. А потом… поеду в Голицыно.
1892. Июль, 28.
Я похож на Антония, очарованного Клеопатрой. Вырвавшись из власти любви, я снова царствую. Сегодня я писал «Юлия Цезаря», изучал итальянский язык, разрабатывал «Помпея Великого», набрасывал строки из «Мимоходом» [40], читал Грота и Паскаля, разбирал Козлова и отдыхал на любимом Спинозе. Надо работать! Надо что-нибудь сделать! А то сколько говоришь о себе, а нет ничего: становится чуть-чуть смешно! За работу! Жизнь не ждет! «Помпей», теперь в тебе вся надежда!
… Вечером читал по-французски, исправил роман Вари [41], в нем нахожу выведенным себя, притом с идеальной стороны. Вся моя оригинальность перед ней в том, что я не объяснился в любви. Прочь чувство! Царствуй мысль! Здесь будет моя точка опоры, времени еще много впереди.
1892. Август, 19.
Как укрепляет работа. Правда, к вечеру часто я теряю всякое соображение, весь полон фигурами римлян и итальянскими словами, но зато ко мне вернулась былая твердость духа. На все смотрю спокойно и уверенно, гордо и правильно. Я верю в свое будущее, а любовь к Варе кажется смешной и пустой. Вперед! На победу!
1892. Август, 20.
Бывают минуты, когда готов послать к черту это горнило умственной работы, славу и искусство, чтобы жить солнцем, музыкой и любовью, счастьем» (М. Башкирцева). Впрочем, сейчас я не в таком настроении. Наоборот, я готов работать, трудиться, бороться. Я счастлив. Вперед!
1892. Август, 31.
Я рожден поэтом. Да! Да! Да!
Друга! Где я найду друга? Ему я высказал бы все, что кипит на душе. Что ж? Что? конечно, любовь…
Вот сказка старая, которой
Быть вечно юной суждено.
Но, впрочем, прочь лиризм! Проза, царствуй! Недаром ты задумал роман «Проза».
1892. Октябрь, 30.
Пишу «Каракаллу», но, по обыкновению, вместо того чтобы писать, больше воображаю общее восхищение, когда это будет написано. Продаю шкуру неубитого медведя… (Дневники. С. 5—9).
О моих стихотворных занятиях прознали в гимназии понемногу все. Так, я показывал свои переводы Энеиды Аппельроту преподавателю латинского языках. Учителю немецкого языка К. К. Павликовскому читал перевод из Шиллера, а тот прочел его Л. И. Поливанову. На уроках французского языка, тогда мы часто вместо перевода Charles XII весело болтали с учителем В.А. Фуксом, я читал свои эпиграммы на товарищей. Когда я начал увлекаться новейшими французскими поэтами, я стал распространять их в гимназии. Мой томик Верлена брал у меня тот же учитель французского языка, читал и, кажется, кое-чем остался доволен. Малларме привел его в отчаянье. Не помню уже, каким путем попало к Л.И. Поливанову мое подражание стихотворениям Верлена <…> Однажды, когда мы все толпились после урока, неожиданное выходит Л.И. Поливанов, ищет меня глазами, находит и подает мне бумагу.
– Брюсов. Вот это вам.
И исчезает. Я развертываю. Это был стихотворный же ответ мне. «Покаянье лжепоэта-француза». Я написал ответную эпиграмму, но показать ее не решился [42] (Из моей жизни. С. 70).
В моих стихах смысл не осмыслив,
Меня ты мышью обозвал,
И, измышляя образ мысли,
Стихи без мысли написал.
1893. Январь, 2.
Привет тебе, Новый год! Последний год второго десятка моей жизни, последний год гимназии… Пора! За дело, друг!.
Вот программа этого года:
1. Выступи на литературном поприще.
2. Блистательно кончи гимназию.
3. Займи отдельное положение в университете.
4. Приведи в порядок все свои убеждения (Дневники. С. 10).
В это время я впервые заинтересовался философией. Начал я с неизбежного для русских Льюиса автора «Истории философии в жизнеописаниях», но тотчас перешел к Куно Фишеру «Истории новой философии» и далее к подлиннику Спинозы. Спиноза некоторое время полностью владел моей душой. Я воображал его «Этику» откровением, ответом на все вопросы. Я переплел его русское издание вместе с белыми листами бумаги — и сам, исходя из его теорем и положений, выводил modo geometrico новые положения, дававшие ответы на все жизненные вопросы и практические задачи (Из моей жизни. С. 72).