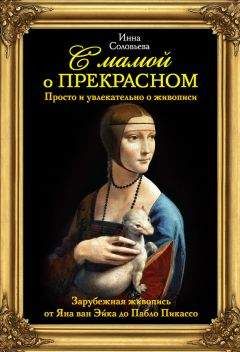Анатолий Рогов - Народные мастера
За окном, внизу, во дворе, за старой березой стоял темно-серый двухэтажный деревянный дом. За домом в купах неподвижной зелени виднелись разноцветные крыши, а дальше — светлые пятиэтажки, которые казались исполинами. Было тихо. Так гулко тихо, как бывает только в предвечерний час, когда даже в помещении при закрытых окнах вдруг ясно услышишь, как на соседней улице прошуршит машина и где-то еще дальше из колонки в пустое ведро со звоном ударит вода. Светлые пятиэтажки на глазах порозовели, потом зазолотились, и следом все зазолотилось, налилось вечерним теплом, темно-серый дом как будто потаенно добро засветился, а береза невесомо поплыла куда-то в этом свете…
Было восемь. Рабочий день кончился два часа назад, но лопаточки все сочно постукивали, хотя и реже. Громче звучало радио.
— Это вот Рая Казакова стучит, а радио у Кузминых и Смирновой… И в субботу они здесь, бывает, и в воскресенье… И чё? Ни чё!..
По радио запели «Дроздов», и низковатый женский голос неподалеку, в этом же здании, подхватил их. Не в унисон прекрасному тенору, а только вторил ему. В голосе этом не было никакой красоты, что-то он выводил даже не в той тональности, а временами и вовсе глох, но глох явно от волнения, от полноты чувств, захлестнувших человека. Человек жил этой песней:
Для души поют,
А не для славы…
Потом несколько минут висела тишина. Небо за окнами гасло, бледнело. В другом конце мастерской озорно зачастили:
Гуси-лебеди летели,
В поле банюшку доспели —
Коростель полок мостил,
Таракан дрова рубил,
Комар воду возил…
И пошло! И пошло! То за стеной песня, то еле слышная внизу. Как перекличка. И смех.
А лопаточки-то все постукивали, постукивали…
Фалалеева тоже спела два куплета из своей любимой про деревеньку-колхозницу.
— Я даже думаю, что какие-то припевки и частушки Анна Афанасьевна Мезрина сама сочиняла. И Косс вон сочиняла… Потому что музыка, песня, в самой природе дымковских вещей. Если кто ее не слышит, никогда лепить не сможет…
И сразу вспомнилось, как красиво, как нарядно они здесь все одеты. И как красиво и нарядно у них в комнатах. И главное, в какую ни войдешь — везде шутки, улыбки, везде какое-то приподнятое настроение, будто люди не на работе, а на празднике. Это так бросается в глаза, что начинаешь лихорадочно вспоминать, какое сегодня число, может, ж вправду забыл какой-нибудь праздник?.. Но потом понимаешь, что в ином настроении, или, скажем, мрачный, злой по природе человек такую скульптуру вообще не сделает. Значит, душу тут нужно иметь не только полыхающую, но и светлую-светлую, и радостную. С такой душой или рождаются, или «дымка» сама постепенно ее в человеке формирует. И к постоянной собранности приучает. И к красоте. Писатель Всеволод Лебедев еще на мезринских работах это подметил: ее кукла, мол, так «блестит и светит, что при ней, при этой кукле, в разговоре слово бранное побоишься сказать, ведь за стеклом она — красавица, сделанная рукой деревенской старухи, — стоит, как гостья, и держись при ней чище и прямее».
12
Люди старшего и среднего возраста помнят: заходишь в пятидесятые годы в любой художественный магазин, и на полках обязательно стоит «дымка». Большая и маленькая. Много ее стояло, хотя покупатели были всегда. А к середине шестидесятых годов она появлялась в тех же магазинах уже только от случая к случаю. И наконец, словно исчезла совсем. Везде, по всей стране, начиная с известного московского художественного салона на Октябрьской площади и кончая самим городом Кировом. В тамошних магазинах ее тоже теперь почти не бывает. Спрашиваешь у продавщиц:
— Вы что, «дымку» совсем не получаете?
— Даже больше, чем прежде, получаем.
— ??!
— Только теперь мгновенно выстраивается очередь, через час, через два ничего не остается. Ни на что больше нет такого спроса, хотя некоторые дымковские работы стоят уже до тридцати-пятидесяти рублей — огромные индюки, например. И каждый день сотни одних и тех же вопросов: «Нет ли «дымки»?» «Когда ждете?»
Ныне изображения дымковских красавиц, парней и мужичков, коней, индюков и скоморохов все чаще и чаше встречаются в печатной рекламе, в эмблемах, на тканях на предметах ширпотреба. В том числе и за рубежом, где интерес и любовь к «дымке» тоже растет, что называется, не по дням, а по часам… А выставки! Люди даже зимой, в мороз часами выстаивают в очередях, чтобы только попасть на них.
Вот бы Анне Афанасьевне увидеть это! Увидеть толпы зачарованных посетителей у стендов с творениями Зои Васильевны Пенкиной или Лидии Сергеевны Фалалеевой, или Валентины Петровны Племянниковой. Увидеть бы и работы всех других… Чувства Анны Афанасьевны в этот момент можно себе представить. И реакцию можно представить: ликовала бы. Ох как ликовала бы!.. А вот о чем бы она думала, что вспоминала? Может, вспоминала бы, как десятки лет одна-одинешенька лепила в Дымкове глиняные игрушки, как все уговаривали ее перейти на гипс, а она сердилась… Или, может, вспоминала бы, как любила лубочные картинки и хотела, чтобы ее игрушки были такие же веселые и яркие… Или про то, как Алексей Иванович первый понял, почему она не бросает глиняную игрушку… И уж что бы Анна Афанасьевна сделала обязательно на нынешней выставке — это спела. Поулыбалась бы и негромко завела:
А кому песня вынется,
Тому и достанется.
А сбудется — не минуется.
На житье, на бытье,
На богачество…
ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЕТЛОЯРУ
1
Существует несколько рукописных «Книг, глаголемых летописец», в которых рассказывается о легендарном граде Китеже.
Начинаются они с псковского великого князя Георгия Всеволодовича, который строил «грады» не только в родном Пскове, но и в Великом Новгороде, в Москве, Переславле-Залесском, Ростове, Ярославле. А в 1164 году основал на Волге город Малый Китеж, и то ли сразу, то ли позже — из текстов это непонятно, «князь Георгий поеха с места того сухим путем, а не по воде, и перееха реку Узолу, и вторую реку перееха именем Санду, и третью реку именем Саногту, и четвертую перееха именем Кержанец и приеха к озеру именем Светлояру. И видя место то велми прекрасно и многолюдно, повеле благоверный князь Георгий Всеволодович строит на брегу озера того Светлояра град именем Большой Китеж, бо место то велми прекрасно и на другом же брезе езера того роща дубовая…».
Сам же князь в эти годы, согласно «Летописцу», уехал «впрежреченный свой Псков град».