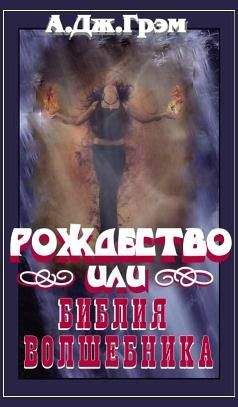Борис Носик - Тот век серебряный, те женщины стальные…
Последний этот вопрос вставал время от времени и перед ней, потому что Брюсов был мужчина решительный, хотя и женатый, а Наденьке было только двадцать, и он был у нее первый. Но подумать, какая к ней пришла таинственная любовь, какая удача, какая слава! Вот уже и книга ее готовится к печати. Что там книга, крошечная книжонка, но какое это громадное событие для молодого поэта — первая книга! А Наденька наша получила личный доступ к самому что ни на есть вершителю судеб русской поэзии и, конечно, влюбилась в него безоглядно. Да и он разогрелся, увлекся, однако всего себя и всего своего времени ей уделять не мог. Был и женат, и женолюб, и писал, и перегружен был оргработой, и вообще, как ныне говорят, «востребован». Не одной ей хотелось держаться к нему поближе, и она это скоро почувствовала. Что ее сильно мучило. Иногда и вовсе становилось невмоготу:
Я странно устала. Довольно! Довольно!
Безвестная близится даль.
И сердцу не страшно. И сердцу не больно.
И ближнего счастья — не жаль.
Уже осенью, через несколько месяцев после сближения, она написала возлюбленному: «Хочу быть первой и единственной. А вы хотели, чтобы я была одной из многих? Вы экспериментировали со мной, рассчитывали каждый шаг. Вы совсем не хотите видеть, что перед Вами не женщина, для которой любовь — спорт, а девочка, для которой она все…»
Но ему и не надо было ничего объяснять. Он все знал. Но от игры своей отказаться не мог, да и верную Жанну Матвеевну не мог оставлять всякий раз, для каждого победоносного эксперимента. Он и Наде заранее намекал, что все преходяще, что все мы из праха вышли, туда и войдем. Однако она надеялась на чудо и обыгрывала в новых стихах его прославленную строку «Радостно крикну из праха: “Я твой!”»:
Ты помнишь, ты помнишь, как в годах и днях
Меня лишь искал ты в огнях и тенях.
И, еле завидев, ты крикнул: «Моя!»
На зов твой ударом ответила я.
И миг нашей встречи стал мигом борьбы,
Мы приняли вызов незрячей Судьбы.
И вот ты повержен, недвижим и нем…
Но так не расколот мой щит и мой шлем.
Ты радостно шепчешь из праха: «Я твой!»
Но смерть за моею стоит головой.
Заветное имя лепечут уста.
Даль неба, как первая ласка, чиста.
А я, умирая, одно сознаю:
Мы вместе! Мы вместе! Очнемся в раю.
Но Валерий Яковлевич не спешил в рай. В июле 1913 года он вывез Наденьку, свою Нелли (как он ее звал), на финский курорт. Для Надиной короткой любви это путешествие с мэтром оказалось вершиной романа. Теперь предстоял спуск. Они еще виделись с Брюсовым, однако она чувствовала, что он уже тяготится их слишком близкой связью, экономит время. После выхода ее первой книжки он сделал ей еще один царственный подарок: выпустил со своим предисловием книжечку «Стихи Нелли». Заглавие было двусмысленным. То ли некая Нелли, как и сама Надя, тяготевшая к поэтике Брюсова, написала эти 28 стихов, то ли стихи были написаны для Нелли (а люди, близкие к его кругу, знали, кого он так называл). Критика накинулась на загадочные тексты, предваряемые статьей мэтра. Гумилев упрекнул стихи в неясности главной мысли. Ходасевич в своей рецензии пытался угадать имя автора. Он нашел в этих якобы женских текстах мужскую законченность форм и твердость, увидел здесь типично брюсовский стих с его чеканкой. Попутно он отметил, что стихи эти и стройнее и глубже продуманы, чем стихи Львовой, но зато уступают как стихам Львовой, так и стихам Ахматовой в самостоятельности. Гумилев высказал предположение, что Нелли — это муляж, фантом, и процитировал одно четверостишие:
Детских плеч твоих дрожанье,
Детских глаз недоуменье,
Миги встреч, часы свиданья,
Долгий час — как век томленья.
Отметив бесспорное дарование таинственной поэтессы, Ходасевич написал, что это не хуже Брюсова. Подала голос и Наденька Львова, написав, что неведомая поэтесса близко подходит к футуризму как к поэзии современности. Заметка Львовой раскрыла ее собственные новые симпатии.
Серьезные исследователи отметили в стихах таинственного сборника и некие отзвуки нового любовного увлечения Брюсова, его романа с Еленой Сырейщиковой. Для влюбленной же Нади Львовой наступила суровая осень, грозящая разлукой с любовью, а может, и с жизнью:
Мне хочется плакать под плач оркестра.
Печален и строг мой профиль.
Я ныне чья-то траурная невеста…
Возьмите, я не буду пить кофе.
Мы празднуем мою близкую смерть.
Факелом вспыхнула на шляпке эгретка.
Вы улыбнетесь… О, случайный! Поверьте,
Я — только поэтка.
Слышите, как шагает по столикам Ночь?..
Ее или Ваши на губах поцелуи?
Запахом дышат сладко-порочным
Над нами склоненные туи.
Радужные брызги хрусталя —
Осколки моего недавнего бреда.
Скрипка застыла на жалобном la…
Нет и не будет рассвета!
Беспокойство Нади, ее требования раздражали мэтра, утомленного чрезмерными трудами, новыми женскими ласками и новыми дозами морфия. Но он был несгибаемый борец, демонический победитель. И он принял меры: преподнес надоевшей ему девочке тот самый пистолет, который уже дарил однажды без заметных кровопролитий, ибо тот «давал осечку». Брюсов проверил и убедился, что пистолет работает исправно.
И вот в один из безысходных ноябрьских вечеров 1913 года Надя позвонила Брюсову из своей комнатки в Константинопольском подворье и сказала, что хочет видеть его безотлагательно. Что иначе она покончит жизнь самоубийством. Брюсов сказал, что очень занят. Верил ли он, что она выполнит угрозу? Может, все же надеялся… В ту ночь она застрелилась из его исправного пистолета.
По просьбе четы Брюсовых Ходасевич попробовал уговорить газетчиков не делать шума. Конечно, сведения о трагедии на подворье просочились в прессу. Брюсов, посетив умирающую Надю, уже безмолвную, надолго уехал в санаторий под Ригой. На ее похоронах он не присутствовал. Похороны описал Ходасевич в своем «Некрополе»:
Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы рука об руку стояли родители Нади… старые, маленькие, коренастые, он — в поношенной шинели с зелеными кантами, она в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали…