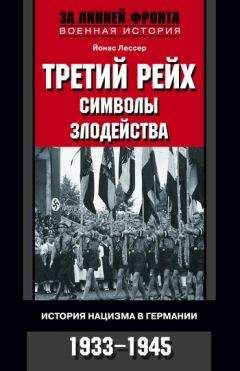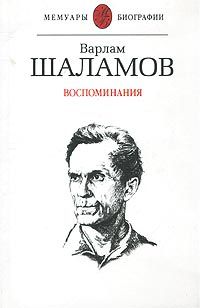Нина Одолинская - Советские каторжанки
Когда я получила первое письмо из дома, у меня было ощущение, будто оно пришло откуда-то с Луны или с Марса, — настолько нереальной казалась возможность связи с домом, который вот уже два года был далеко за пределами досягаемости. Словно не было его. Словно исчез навсегда. И вдруг появился...
Три дня ходила в состоянии душевного смятения, перечитывала письмо от мамы, полное теплых слов и тревоги за мою судьбу, и ощущала, что во всем необъятном мире, во всей вселенной есть только один человек, которому я нужна и дорога.
Ушла на работу, спряталась за дальний отвал грунта, легла ничком в холодную земляную ложбинку и выплакалась. Стало легче.
С последним транспортом перед закрытием навигации по Енисею пришла посылка. Когда увидела свою фамилию в списке на посылке, меня залила горячая волна радости. И тревога: как там мама? Вот сейчас по содержимому посылки узнаю, как она живет. В письмах ведь все стараются писать о хорошем... О том, что отец умер летом сорок пятого года, я уже знала из письма. Что мама живет на крохотную пенсию за отца и ей не хватает на жизнь — догадывалась. Правда, летом мать продает растущую в саду клубнику, но сколько ее там?..
В посылке было всего понемногу. Совсем небольшой кусочек сала, много сухофруктов (со своих деревьев), кульки с крупой и пачка толокна. Варенья не было, а были пластинки пастилы из слив. Немного муки.
Я поняла, что матери живется трудно. Иначе прислала бы чего-нибудь повкуснее и подороже. Стало не по себе оттого, что в свои двадцать шесть лет вынуждена просить у матери помощи, вместо того чтобы помочь ей.
Впоследствии я уже не просила ничего дорогого, но постепенно там, дома, жизнь налаживалась, посылки становились лучше.
Радость от гостинца из дома была кратковременной — зимой посылок не было. Авиапосылки стоили очень дорого, и даже богатенькие девчата их не получали. Обычные же принимали только с июня, когда открывалась навигация по Енисею.
«05.05.47г.
Здравствуй, милая, родная мамочка!
Не сердись, что так долго не писала! Мне так трудно писать теперь, да и в моей однообразной жизни произошли маленькие перемены. Нас перевезли с той станции, где строится аэродром, в самый городок Норильск. Здесь огромный лагерь на 2000 человек. А для нас, женщин-каторжанок, отделили маленькую зону.
Работа — в глиняном и песчаном карьерах, добыча материалов для кирпичного завода. Работа опять изнурительная, тяжелая, питание неважное. Только бараки чище, больше порядка, много воды (горячей и холодной) и лучше отношение. Я пока, слава Богу, от всех удовольствий лагеря избавлена: со 2 апреля попала в больницу при санчасти и там лежу до сих пор. Болезнь моя — упадок сил на почве истощения. Я уже выздоровела, относятся ко мне все очень хорошо. Поправляюсь медленно, так как и здесь питание очень слабое. Спасают только покой и чистота. Отдохнула душой за этот месяц, немного окрепла физически. А теперь меня переводят на месяц в бригаду легкого труда. А там что Бог даст, не знаю. Да так далеко и не заглядываю. Хорошо сегодня — и слава Богу.
Праздники 1-го и 2-го мая прошли спокойно, всех вывели на работу, а у нас в палате было тихо, и все спали, так как даже радио в эти дни поломалось. А от безделья особенно хочется кушать, так мы стараемся больше спать — от еды до еды.
Почти месяц, как я получила в начале апреля твои и Валины письма, только за начало января и за декабрь, так что отвечать на них было неинтересно. Все же решила не дожидаться больше (их не скоро пришлют в новый лагерь) и пишу.
Письма где-то здесь. Они пролеживают на почте по полтора-два месяца, так что скоро я получу их целую кучу.
Насчет писем в Москву — пока не пишу ничего. Сюда уже присылали из Верховного Совета запрос обо мне, характеристику выслали отсюда хорошую. Теперь надо ждать. После получения результата начну и я писать.
Почему не хлопочу — напишу в другой раз, когда придет почта, и мы узнаем, что ответила Москва нашему начальству на ходатайство о тех, кто строил аэродром.
А сейчас так хочется отсюда вырваться! На дворе май, в лагере везде огромные черные сугробы, а сегодня на окнах мороз, хоть и стоит яркая солнечная погода. Так хочется тепла, зелени и ласки!
Мама, пришли в письме рублевых марок для писем авиапочтой, иголку и твою фотографию, хоть маленькую.
Прошу тебя еще вот о чем: напиши по адресам в Брянск и в Тулу (дальше адреса — Н. О.), попроси их сообщить адрес Виктора Федоровича Кудрявцева, придумай, что это твой дальний родственник, пропавший без вести. Узнаешь адрес — напиши ему и попроси сообщить о моем друге Сергее Александровиче Гончарове. Дай мой адрес, который немного изменился: к номеру почтового ящика добавляется «Ж»: п/я 224 «Ж» — буква лагеря.
Кудрявцев знает, о ком идет речь, и может мне помочь. Сообщи ему, что я осуждена 14 апреля 1945 г. в контрразведке IV Украинского фронта и жду от него весточки. Больше ничего не пиши. Я ведь не знаю, кто меня помнит, а кто забыл. Может быть, просто во имя старой дружбы помогут, хоть я и не особенно в это верю. Но надо использовать все возможности. В газету писать по твоему совету не стала — не дается мне, не могу, отупела, трудно стало писать деловые бумаги. Напишу позже.
Целую, мамочка, тебя крепко. Мне тоже снятся хорошие сны, не знаю, сбудутся ли. Береги себя, родная, не надо так за меня волноваться. Я молодая — выживу и приеду. Жди. Нина».
Среди воспоминаний о прошлом в памяти самым сильным и ярким событием осталась любовь к человеку, которого встретила в разведшколе и который проявил ко мне самые добрые чувства. Я не могла знать, что для Виктора Федоровича Кудрявцева (псевдоним по школе — Сергей Александрович Гончаров) встреча со мною была лишь эпизодом на том трудном и очень опасном пути, которым он тогда шел, борясь за право на жизнь. На следствии я рассказала о себе всю правду, а о нем отчаянно врала, называя совсем другого человека в качестве своего близкого друга. Я берегла его, берегла память о нем. И, может быть, как-то иначе, выгоднее для себя сумела бы дать показания, если бы все мое существо не было пронизано болью от разлуки, от сознания необратимости происшедшего, которое отсекло малейшую надежду на встречу с ним. От душевной боли все остальное казалось мелочью, было все равно, что обо мне думают и что напишут следователи. Я его тогда уберегла. Его имя не появилось в судебных документах, связанных с моим делом.
И сквозь лагерные трудности я бережно несла память о встрече с Кудрявцевым, свою любовь к нему. Хотелось и здесь суметь остаться человеком, вопреки всем трудностям и лишениям, чтобы при встрече с ним не стыдиться своих поступков, чтобы ему не в чем было меня упрекнуть.
Конечно, он не станет ждать, это было ясно. Ну а вдруг? Если он выживет, а я дождусь встречи с ним — вдруг снова найду в нем старшего, умного, сильного друга? Ведь бывает в жизни и такое?..