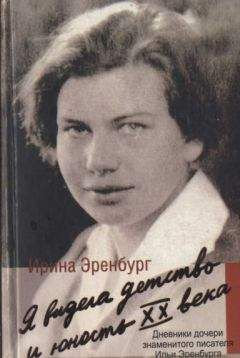Ирина Архипова - Музыка жизни
Среди приехавших были и мои подруги, с которыми я поступала в институт в Ташкенте. Еще шла война, но все понемногу начинало приходить в норму. Москва становилась оживленнее: в нее возвращались из эвакуации многие ее жители, начинало работать все больше театров. Мы были молоды, полны надежд на лучшее, старались не пропускать ничего из того, что интересовало нас: театры, концерты, выставки…
Здание Архитектурного института находится недалеко от Большого театра, и это обстоятельство было нам на руку. Чтобы достать билеты в Большой театр, мы осуществляли настоящую операцию. Я для этого оставалась ночевать у подруг в институтском общежитии. Рано-рано, еще затемно, мы выходили на улицу Рождественку и, перебегая от подъезда к подъезду, пробирались вниз, к Кузнецкому мосту, а оттуда — к кассам Большого театра. Это было рискованно — мы могли нарваться на военные патрули: в Москве еще действовал комендантский час и ходить по ночному городу просто так было нельзя. Правда, комендантский час тогда был уже не такой строгий, как в первые годы войны, — дело шло к победе.
Такие «подвиги», щекотавшие нервы чувством опасности, возможны только в молодости. Зато после всех приключений нам удавалось проскользнуть незамеченными и мы становились в очередь первыми. А когда покупали билеты — самые дешевые, на четвертый ярус, — были счастливы донельзя. Помню, как нам посчастливилось купить билеты на «Аиду», где в партии Амнерис выступала В. А. Давыдова — тогдашний мой кумир. Вера Александровна была не только прекрасной певицей, но и очень красивой женщиной: на сцене она выглядела потрясающе.
Позже, когда я уже была студенткой консерватории, я преклонялась еще перед одной замечательной певицей и тоже красавицей — Зарой Александровной Долухановой. Она тогда была молодой артисткой, как говорят, на взлете. Слушать ее я ходила чаще всего в Большой зал консерватории, где у нее были циклы-концерты с очень интересно подобранной программой. Аккомпанировал ей замечательный пианист Александр Ерохин.
Особенно памятен мне концерт Зары Долухановой в Колонном зале. Она стояла на сцене в розовом платье, черноволосая, невозможно красивая — прямо-таки восточный цветок. А как она пела!.. В концерте были «Аллилуя» Моцарта, «Песня Сольвейг» Грига, другие очень мелодичные и известные произведения. И все это — и невероятной красоты голос, и прекрасная вокальная техника, и дивная музыка — доставляло истинное наслаждение. Мне потом не раз приходилось слышать Зару Александровну, но тот концерт в Колонном зале запал в мою память, несмотря на то что прошло, уже столько лет.
Студентам, как и всему народу, в те годы жилось трудно: было плохо с продуктами, с одеждой. Еще шла война, и страна все отдавала фронту. Мне запомнился один случай. У нас в институте устраивались выставки проектов и рисунков студентов старших курсов. Мы всегда посещали эти выставки и запоминали фамилии авторов наиболее понравившихся нам работ. Среди них был изумительный рисовальщик, талантливый Федя Серебровский с небесно-голубыми глазами (это мы, молодые девушки, отметили немедленно). Он дружил с Аркашей Толстопятовым, очень красивым парнем. Так вот этот красавец ходил в башмаках, которые «просили каши», и он перевязывал их веревкой, чтобы они не развалились. Почему я это запомнила? Наверное, меня поразило несоответствие: парень хорош собой и такие башмаки. Но и в тех трудных условиях эти ребята оставались людьми талантливыми, умными, интеллигентными. Не одежда красит… Мы судили о людях не по их внешней оболочке, а по их работе, по их делам.
Через несколько лет, когда я уже была оперной певицей и приехала с театром на гастроли в Челябинск, за кулисы поздравить меня пришли архитекторы. Среди них был и Федя Серебровский все с теми же красивыми голубыми глазами. Тогда в Челябинске было много наших выпускников, составлявших костяк местной архитектурной мастерской.
Но были трудности и более трагического свойства. Со мной в группе училась Мира Уборевич — дочь репрессированного в 1937 году известного военачальника, командарма И. П. Уборевича. Участник революции, он назвал свою дочь в честь Ленина Владимирой, мы же звали ее просто Мирой. Она была удивительно хороша — румяная, с зелеными глазами, с огромной косой. И вот на третьем курсе она вдруг неожиданно исчезла — не по своей воле. Репрессии по отношению к родственникам «врагов народа» продолжались, и Миру отправили из Москвы в далекую ссылку. Мы ничего толком не знали: в те годы говорить об этом было нельзя.
Кое-что удалось узнать от нашего студента, которого звали Жорой. Он был влюблен (и безответно) в Миру, не побоялся все выяснить, а потом переписывался с ней. Всей группой мы собирали для Миры посылки: лук, какие-то продукты — все, что могли найти в те несытые годы. Мы отдавали собранное Жоре, а он отправлял их Мире. Не знаю, доходили ли они до нее? По крайней мере дальнейшие события заставили нас усомниться в этом.
В тех местах, где Мира Уборевич отбывала ссылку, ей удалось получить работу в чертежном бюро. Но чтобы попасть на такую работу, женщине надо было быть беременной — считалось, что в бюро более приемлемые условия. Конечно, если сравнивать с рубкой леса… У Миры родилась дочка, но из-за недостатка витаминов и солнца девочка могла погибнуть. Поскольку Мира была в бюро на хорошем счету, ей разрешили на время покинуть место ссылки, срок которой еще не ' кончился, и переправить дочку под Москву — в деревню, где жила бывшая няня семьи Уборевич.
Мы поехали встречать Миру на Ярославский вокзал, не зная точно ни вагона, ни места. Со своей подругой Кисой Лебедевой мы встали в разных местах перрона на пути прибывших пассажиров, внимательно вглядывались, ища Миру, и не находили ее. Может быть, она не приехала?.. И вдруг слышу: «Ира, ты не узнаешь меня?..» Передо мной стояла какая-то чужая женщина с изможденным лицом, в которой мне с трудом удалось узнать прежнюю розовощекую Миру — так изменились ее черты. От нашей симпатичной подруги ничего не осталось — это была другая Мира, исхудавшая, измученная. Она держала на руках тоже худенькую, очень бледную девочку с огромными ресницами. Ребенок был настолько ослаблен, что спасти его потом так и не удалось…
Хочу заметить, что в наше время в Архитектурном институте было немало детей из «правительственных» семей. Уже когда мы вернулись из Ташкента, к нам поступила учиться на первый курс дочь Г. М. Маленкова, хорошенькая, с роскошными каштановыми волосами, с тонкой талией — настоящая статуэтка.
Здесь уместно сказать об уровне культуры тогдашних студентов нашего института, а о профессорах я вообще не говорю. Тогда в Архитектурный институт в основном поступали горожане, люди, выросшие в условиях города и с детства знавшие, что такое архитектура. В 20 — начале 30-х годов в старой Москве, да и в других городах еще сохранялось немало образцов настоящей архитектуры: церквей, дворцов, особняков. Впоследствии большинство из них было уничтожено, перестроено, переделано, приспособлено под разного рода конторы, склады и другие невыразительные учреждения. Соответственно менялся и их внешний вид — конечно же, в худшую сторону. На внешнем облике городов сказались и последствия войны: на месте разрушенных кварталов стали возникать безликие постройки — надо было хоть как-то расселять людей, потерявших кров, и тут уж было не до красот архитектуры. К сожалению, этот процесс слишком затянулся — достаточно вспомнить вид большинства наших городов и поселков. Справедливости ради следует заметить, что Москве в этом смысле то ли повезло, то ли досталось (как трактовать), — в ней строились здания и по индивидуальным проектам, причем их авторами были выдающиеся архитекторы. Но те же высотные здания, появившиеся в столице в 50-е годы (в период особо острой нехватки жилья), строились в первую очередь в пропагандистских целях — в основном для демонстрации достижений социалистического строя и «успехов» советской архитектуры. Страна же продолжала, кое-как «залатав» сохранившееся жилье, жить и в тесноте, и в обиде. Вот и вышло, что уже несколько поколений нынешних горожан выросли отнюдь не в красочном окружении, а среди типовых построек, возводившихся в спешном порядке, чтобы снять остроту жилищной проблемы.