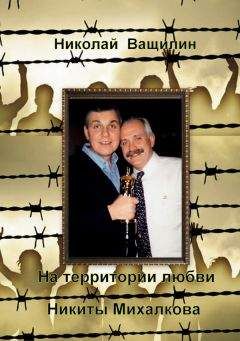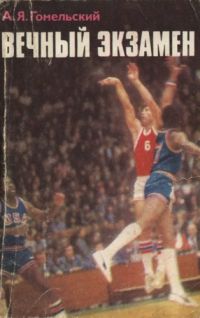Анри Труайя - Марина Цветаева
Свадьба Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном была отпразднована в очень узком кругу 27 января 1912 года. Венчались молодые в Палашевской церкви в честь Рождества Христова – перед образом «Взыскание погибших». И если некоторые из присутствовавших на церемонии – очень немногих – свидетелей выглядели растерянными и даже подавленными, лица новобрачных светились радостью.
Иван Владимирович сумел побороть свою досаду, удвоив пыл, с каким готовился к близкому уже теперь открытию Музея изящных искусств, который стали теперь называть Музеем Александра III[40] и которому была отдана большая часть его жизни. Официальную церемонию назначили на 31 мая 1912 года. Толпу гостей, присутствовавших при этом апофеозе трудов профессора Цветаева и его сподвижников, возглавляли «высочайшие» – сам царь и члены императорской семьи, наиболее знатные придворные, члены правительства. Торжественности освящения ничуть не соответствовала сдержанность того, чьим титаническим усилиям Россия была обязана созданием Музея. Да, конечно, в этот день профессору в соответствии с требованиями протокола пришлось надеть заказанный у придворного портного и обошедшийся профессору в восемьсот рублей парадный мундир, шитый золотом, и к тому же украсить этот мундир орденской планкой, но ритм его сердца, бившегося как никогда сильно, будь он кем-то услышан, нарушил бы плавный ход помпезного действа. Роскошь одежды была чужда скромному ученому. Он выглядел столь неловким, неуклюжим, неестественным в непривычном, будто позаимствованном у кого-то другого праздничном костюме, что дочерям, восхищавшимся им, на самом деле больше всего хотелось пожалеть. Что же до зятя, который тоже присутствовал на церемонии, то он смотрел во все глаза только на царя Николая II, и воспоминания его об открытии Музея ограничились несколькими строчками письма к сестре Вере от 7 июня 1912 года: «В продолжение всего молебна, а он длился около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери. Очень хорошо разглядел его. Он очень мал ростом, моложав, с добрыми, светлыми глазами. Наружность не императора». А Марина, у которой от наплыва чувств перехватывало дыхание, слушая похвальные речи Николая II, благодарившего профессора Цветаева за бескорыстно проделанную им огромную работу во славу России, догадалась вдруг, чего больше всего сейчас хотелось бы самому герою праздника. Сейчас больше всего ее отец хотел бы сбежать отсюда, от этих протокольных поздравлений, чтобы вернуться домой и с головой утонуть в своих книгах и рукописях. «Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову – как всегда, когда читал или слушал (в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее), явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном Музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела», – напишет она после в автобиографическом очерке «Открытие музея». И добавит: «Это было видение совершенного покоя…»
Публичное признание и всеобщая благодарность за преданность искусству и родине более или менее утешила профессора Цветаева, еще не забывшего о выдвигавшихся против него совсем еще недавно нелепых обвинениях в некомпетентности и небрежности в качестве руководителя Румянцевского музея. Эйфория от сегодняшнего успеха позволила ему отвлечься от мрачных мыслей и почти забыть о беспокойстве, связанном с неожиданным для него браком старшей дочери. А вскоре Сергей Эфрон стал казаться Ивану Владимировичу умным и симпатичным юношей. Но стоило чуть улечься отцовским волнениям, так вот пожалуйста: уже и младшая, Анастасия, желает выскочить замуж за какую-то бездарь, какого-то пустоцвета! Нет, решительно гораздо легче собирать шедевры художественного творчества по всему свету, чем навести порядок во взбаламученных мозгах влюбленной девчушки! На этот раз все возражения были заранее обречены на провал: Анастасия, предусмотрев, как пойдут дела, подстраховалась от отказа Ивана Владимировича признать ее брак: она носила под сердцем ребенка от Бориса Трухачева. Скрывала, сколько могла, этот факт от окружающих, но теперь пришлось открыться. Только Марина – единственная из всех! – знала о тайной беременности, и она ликовала от одной лишь мысли о том, что младшая сестра станет матерью раньше ее самой. Совершенно потерявший голову, растерявшийся перед бурным потоком казавшихся ему безумными и абсурдными женских идей, Иван Цветаев принял решение смириться с неизбежным. Анастасия и Борис обвенчались в церкви, и после того как она все-таки успела вовремя получить благословение священника, у счастливой пары родился сын, которого новоявленная мама назвала Андреем.
Но волнения профессора на этом не закончились. Теперь уже эстафету перехватила Марина. Вернувшись из свадебного путешествия по Франции и Италии, она объявила отцу, что ждет ребенка. И светилась при этом так, будто настоящая поэзия для нее заключалась нынче не в строчках стихов, которые выйдут из-под ее пера, а в том, что зреет в ее утробе. Отец покорно радовался вместе с нею этому ниспосланному Господом материнству. 5 сентября 1912 года Марина родила дочь и назвала ее Ариадной. Почему она выбрала для ребенка такое странное имя, которое в православных святцах носит никому почти не известная мученица, являющаяся для Церкви символом «женской верности»? Близкие, прежде всего отец и муж, умоляли Марину еще подумать, уговаривали представить себе, как выросшая девочка – такое ведь вполне возможно! – будет страдать из-за этого вычурного и даже немножко смешного имени… Но когда Марина что-то вбивала себе в голову, отговорить ее было невозможно. Она утверждала, что выбор сознательный, что она при этом думала о героине мифа о Тезее, которым бредила с самого детства. Но на самом деле все было не так. По-настоящему ее волновало совсем другое: она хотела лишний раз обособиться, подчеркнуть свою исключительность, выделиться из ряда молодых матерей, которые все как одна называют своих новорожденных дочек Татьянами, Натальями, Ольгами… Цветаева сама признается в этом позже. Как и в том, что с самого начала стремилась, чтобы ее дочь существовала под особой звездой, носила на себе особый знак с самых первых своих шагов по этой земле. «Назвала, – напишет Марина позже, – от романтизма и высокомерия, которые руководят моей жизнью, – Ариадна! – Ведь это ответственно! – Именно потому».[41] Но обычно Марина вместо замысловатого, вычурного и какого-то шероховатого имени Ариадна пользовалась, обращаясь к дочери или рассказывая о ней, нежным уменьшительным – Аля.
И другим рождением, имевшим почти такое же огромное значение, как рождение дочери, был отмечен для Марины Цветаевой 1912 год. Сборник, над которым она – независимо ни от чего – работала долгие месяцы, «Волшебный фонарь», появился на прилавках книжных магазинов, увидел свет. Как и предыдущая, первая ее книга, он был напечатан за счет автора тиражом в пятьсот экземпляров. Но теперь, уже имея опыт, она жадно ловила реакцию прессы. Увы! Редкий критик станет превозносить поэта за его вторую книгу, если он сам или коллеги проявили слабость, похвалив первую. Удовольствия от того, что открыл новое светило, уже не получишь, а следовательно – такова уж их точка зрения, – лучше показать, что вновь обрел трезвый ум, и «отмыться» отрицанием всего и вся, проявляя сожаление о том, что прежде ими двигала исключительно снисходительность. Даже те, кто прежде приветствовал «лепет» юной поэтессы, теперь стали привередничать. Сергеев упрекал автора «Волшебного фонаря» в том, что атмосфера в стихах слишком затхлая, что Цветаева словно заперлась в четырех стенах своей детской комнаты. Еще более сурово отнесся к новому сборнику Валерий Брюсов: у него одновременно прозвучали обвинения в чрезмерной интимности всего написанного и в непростительной небрежности стиля. Гумилев в заключительной части своего разноса выразил надежду, что в третьей книге Цветаева сможет искупить свои грехи и избавиться от декадентской ребячливости, свойственной «Волшебному фонарю».