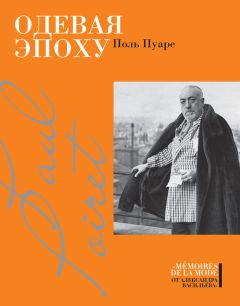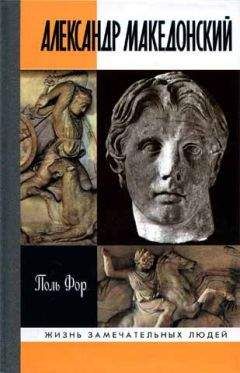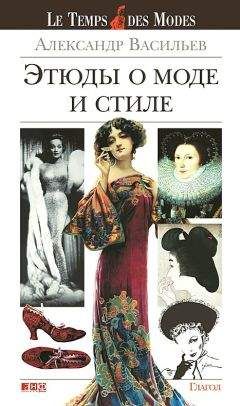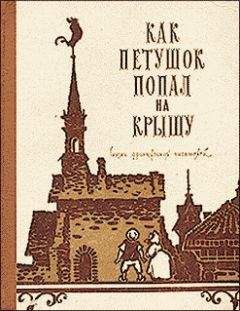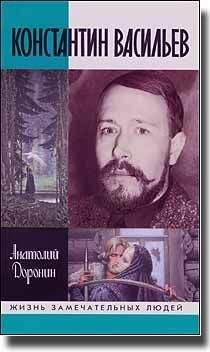Александр Городницкий - И жить еще надежде…
Заявления в академию подало больше половины класса, в том числе и я, совершенно упустив из виду то (показавшееся нам совершенно неважным) обстоятельство, что прием-то был только на специальность «строительство аэродромов», которая никакого отношения к полетам не имела. Поскольку я, не без оснований, побаивался, что меня и в академию из-за пятого пункта не возьмут, то одновременно начал думать — не поступить ли в военно-морское училище, хотя, конечно, о море, как и о геологии, никакого понятия не имел, а воды боялся, поскольку плавать не умел.
В моем увлечении морем во многом «повинны» Сергей и Вадим Карцевы, уверенно пошедшие после седьмого класса сначала в подготовительное, а потом в Высшее военно-морское училище. Прибегая домой в недолгие сроки увольнений или в «самоволку», загорелые и отощавшие на военно-морских харчах, братья поражали мое убогое школьное воображение незнакомыми морскими словечками. Пол они называли палубой, кухню — камбузом, стены — переборками, порог — комингсом. Мир вокруг начинал преображаться. Казалось, привычные прежде комнатные стены, став переборками, кренятся и скрипят, унылый дом напротив, маячащий в окнах, превращается во вражеский фрегат, идущий на абордаж, а серые булыжники мостовой искрятся балтийской рябью под атлантическим норд-вестом. Братья чаще приходили в выходной форме с ярко-синим сиянием «гюйсов» (так они называли свои морские форменные воротники с тремя белыми полосками, присвоенными, как мне объяснил Сергей, русским морякам еще в XVIII веке за победы в морских сражениях). Первое, что они делали по приходе, — бросались, сняв свои «гюйсы», на кухню и начинали яростно их застирывать, безуспешно стараясь с помощью хозяйственного мыла и щелочей вытравить красивый синий цвет. На мой недоуменный вопрос братья снисходительно пояснили, что новенькие синие воротники — опознавательный знак «салаг», а у настоящих опытных и бывалых моряков, каковыми они, вне всяких сомнений, себя и считали, «гюйсы» должны быть бледными, выцветшими от тропического солнца, полярных ветров и соленой воды.
А чего стоили их палаши в черных тугих ножнах с черными же рукоятями и кистями на эфесах, настоящее «табельное» оружие, которое обычно небрежно отстегивалось и ставилось в угол! Разрешение «подержать» палаш обычно сопровождалось захватывающими дух историями о кровопролитных дуэлях (конечно, из-за женщины), возродивших древнее искусство фехтования. О том, как грозные курсанты наводят ужас на всю шпану в танцевальном «Мраморном зале» на Васильевском острове. Как под угрозой обнаженных палашей испуганные милиционеры, незаконно придравшиеся к курсантам на ночной набережной, вынуждены многократно отдавать им честь, чтобы потом убраться подобру-поздорову.
Но даже когда братья являлись в «самоволку» из какого-нибудь овощехранилища в грязных, донельзя затертых матросских «робах» и огромных не по размеру ботинках последнего срока носки, прозванных «ГД» (говнодавы), они и тогда казались мне небожителями, штатными гриновскими героями, сошедшими ненадолго на берег.
Итак, мифическое море и не менее мифическое небо, ослепившие худосочного юнца на пороге десятого класса. Я регулярно, вместе со всеми, являлся «на построения» и перекличку на старый, еще дореволюционный плац в Военно-воздушную академию на улицу Красного курсанта на Петроградской и одновременно собирал документы для военно-морского училища. Отец, всю жизнь работавший в системе военной гидрографии, поначалу снисходительно относился к моим безумным намерениям, справедливо полагая, что все равно из этого ничего не получится. Только когда, уже получив аттестат и медаль, я должен был назавтра окончательно отдать документы в академию, где, как ни странно, попал в список, он всерьез встревожился и с несвойственной ему безоговорочно-твердой манерой категорически отговорил меня связываться с военной службой, которую слишком хорошо знал.
Что же было делать? Недолго сомневаясь, я отнес документы на Васильевский в приемную комиссию Ленинградского Горного института, где просил зачислить меня на геолого-разведочный факультет. Почему именно Горный? А не потому ли, думаю я теперь, что и в Горном институте в те времена тоже была форма, унаследованная еще от царских времен и, кстати, весьма напоминающая морскую офицерскую — с такими же двубортными тужурками, украшенными золотыми жгутами контр-погон с литыми буквами на них, напоминавшими императорские гербы? Да и знаменитое здание воронихинской постройки с его грязно-белой колоннадой располагалось на Самой набережной, и неподалеку от подъезда поскрипывали у причала суда. А из вечно пыльных окон институтских аудиторий были видны мачты и надстройки огромных кораблей, стоявших на соседних стапелях Балтийского завода. А еще дальше, за унылыми заводскими корпусами, редкий солнечный луч вдруг выхватывал из дымной мглы ослепительную рябь Маркизовой лужи. Я никогда, в отличие от Володи Британишского, не увлекался минералогией и геолог ней и выбирал скорее не специальность, а образ жизни, который в моем наивном мальчишеском воображении был связан с постоянными экспедициями, преодолением трудностей и приключениями.
Значительно позднее я прочел и взял на вооружение мудрую фразу любимого мною Роальда Амундсена, одного из самых героических путешественников, открывшего Северный и Южный полюса: «Всякое приключение — результат плохо организованной работы».
Жесткого «национального ценза» в Горном (по сравнению с университетом) как будто не было, и я сравнительно легко прошел обязательное для медалистов собеседование. Строгая медкомиссия также подтвердила мою принципиальную пригодность к трудностям геологических скитаний. Но здесь совершенно неожиданно возникла новая проблема. Оказалось, для поступления в Горный надо обязательно совершить прыжок с вышки в воду, как требуют нормы ГТО. До сих пор не могу понять, какой идиот придумал это условие, что общего между геологией и прыжками в воду.
Известие это повергло меня в полное уныние, поскольку плавать я тогда не умел совершенно. В Горный, однако, очень хотелось, и я, непонятно на что надеясь, отправился в толпе абитуриентов к водному стадиону на Елагин остров. Кончался дождливый ленинградский август. День был будний, холодный и ветреный, на влажных дорожках парка лежали первые осенние листья.
Нас загнали в раздевалку, и затем мы, зябко поеживаясь, долго толклись на некрашеных холодных досках купальни под порывами сырого ветра, ожидая, пока нас по одному вызовут на вышку. Услышав свою фамилию и мгновенно вспотев от волнения и страха, я на подгибающихся непослушных ногах направился к вышке с твердым намерением прыгнуть во что бы то ни стало, хотя и уверен был, что иду на самоубийство. «Главное прыгнуть, — твердил я себе, собрав остатки мужества, — а уж потом как-нибудь вытащат». Наивный школьник, воспитанный под сталинский барабан, я тогда всерьез полагал, что «в советской стране человеку не дадут погибнуть». Увы, более чем тридцатилетний опыт экспедиций впоследствии показал: на деле все обстоит совсем не так.
Руки и ноги меня не слушались. Когда я наконец взобрался на вышку, где очутился впервые в жизни, глянул вниз на отвратительную серую воду с огромной, как мне показалось, высоты и сделал пару неуверенных шагов по шаткой доске, с которой мне надлежало прыгнуть, то понял, что ни за что на свете этого не сделаю. Без всякого юмора вспомнил я в этот момент старый анекдот про еврея, который пообещал, что за четыре поллитры спрыгнет с Исаакиевского собора. Когда он забрался туда, то заявил: «Об соспрыгнуть не может быть и речи. Вопрос об том, как слезть вниз». Я повернулся, чтобы с позором уйти назад, но в этот момент доска спружинила, и я упал в воду. Не помню, как выбрался, но прыжок мне засчитали. Так я стал геологом…
Ленинградский Горный начала 50-х представлял собой своеобразное заведение. С одной стороны — старейший технический вуз, основанный еще Екатериной II для дворян как «офицерский корпус горных инженеров». В знаменитом музее, среди образцов исчезающих ныне видов горных пород, вроде малахита, диковинного чуда — пальмы, выкованной русским умельцем из обыкновенного чугунного рельса, и портретов ставших известными выпускников (в числе которых красуется теперь и мой), можно увидеть образцы форменных сюртуков конца XVIII века и короткие шпаги «Господ Горных Ея Величества инженеров». Давние эти традиции как бы подчеркивались вновь введенной после войны для горняков и геологов формой. Нам, юнцам, нужды не было в том, что безумный генералиссимус решил перевести на казарменный образ жизни почти все гражданские ведомства. Нас радовали фуражки с молоточками, подтверждавшие принадлежность вчерашних нищих мальчишек к «Горному корпусу». Фуражки эти с самого начала первого курса, еще за год до получения формы (ее разрешали носить только со второго курса), были предметом немалой гордости. Их полагалось заказывать в специальных ателье, где шились они как морские офицерские фуражки — с высокой тульей и широкими полями. Козырек, наоборот, был небольшим, круто скошенным вниз и острым, «нахимовским». Молоточки же, украшавшие тулью спереди, должны были быть обязательно геологическими — тонкими, а не, упаси Боже, толстыми — горными.