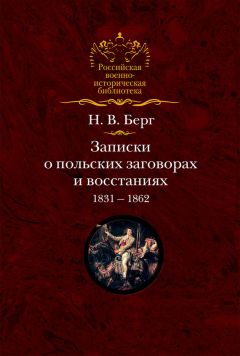Николай Ашукин - Брюсов
Центральная тема брюсовской историософии — тема трагической смены культур, тема «грядущих гуннов», варваров, заступающих место изживающего себя александризма старого мира. <…> Позиция исторической бесстрастности, которой пытается прикрыться Брюсов, имеет для него совсем не бесстрастный, а даже наоборот, остро полемический смысл <…> о грандиозности планов <Брюсова> в области исторического жанра дает еще более яркое представление извлеченная из его архива «программа» <…> Она содержит в себе оглавление «шестидесяти шести картин из жизни народов различных времен и стран» (Максимов Д. Валерий Брюсов. Незаконченная проза // Звезда. 1935. № 2. С. 251, 252).
В последние годы жизни Брюсова им была задумана книга исторических рассказов, изображающих жизнь разных народов. В архиве его сохранились варианты заглавии: «Кинематограф столетий», «В подзорную трубу веков», «Отражения времен», «Camera obscura (времен)», «Фильмы веков». Предисловие к задуманной книге:
Рассказы, собранные в этой книге, составляют среднее между так называемыми «историческими романами» и очерками по бытовой истории. Изображая прошлое, я старался придать образам и картинам столько живости и яркости, сколько в силах придать им художественное слово, — точнее: мои личные способности владеть художественным словом. Моей задачей было достичь, чтобы каждая фигура, каждое описанное событие, все изображенные местности или здания вставали перед читателем не только движущимися, как в кинематографе, но и красочными, как на полотне художника. Мне хотелось бы, чтобы мои рассказы говорили чувству, воображению, чтобы они волновали читателя тем особым волнением, какое свойственно лишь созданиям искусства…
С другой стороны, пределы изобретения, выдумки в моих рассказах строго ограничены. Все мои действующие лица суть лица, действительно жившие: все рассказанные происшествия – действительно имели место в прошлом; по крайней мере, обо всех них сохранились свидетельства, признаваемые достоверными; все «сюжеты», в конце концов, суть исторические события. Моим делом было только ярко представить себе и, по мере сил, столь же ярко пересказать читателям все то, что в летописях, в подлинных документах, у историков, рассказано сухо, холодно, спокойно. Изображая обстановку действия, я каждую деталь заимствовал из свидетельств современников, — из хроник, из мемуаров, из археологических находок, с произведений искусства; ни одного штриха не позволял я себе измыслить. Не желая разбивать впечатления при чтении, я отказался от подстрочных примечаний, но почти к каждой строке я мог бы сделать сноску, в которой объяснил бы, что такая-то черта взята мною с такой-то статуи, другая основана на такой-то вещи, хранящейся в таком-то музее, на третью мне дала право такая-то летопись и т. п. Наиболее существенные из этих указанных сделаны мною в примечаниях в конце книги, где объяснены и те материалы, какие дали мне основную фабулу рассказов. Согласно с таким общим замыслом, я избегал вводить в рассказы диалог; там где он встречается, слова также заимствованы из подлинных источников; только в очень немногих случаях, в силу художественной необходимости, я вкладывал в уста действующих лиц несколько слов, которых не нашел в своих материалах, стараясь, чтобы эти речи были сколько возможно кратки и, конечно, вполне соответствовали бы как характеру введенных лиц, так и манере говорить данного века, поскольку она нам известна из других данных. Короче говоря, читатель, пробегая мои рассказы, может быть уверен, что перед ним не «свободный вымысел» поэта, но — достоверные исторические факты, насколько вообще могут быть достоверны наши знания о прошлом, тем более о столь отдаленном, как, например, события второго и третьего тысячелетия до Р.Х. (Неизданная проза. С. 5, 6).
Брюсов, в течение ряда лет возглавляя собою русский символизм, в то же самое время был весьма реалистическим исследователем, ученым, историком. Это накладывало свой отпечаток даже и на его поэзию. Что же касается художественно-исторической прозы, то он не только с какой-то внутренней вершины и с профессиональным прищуром глаз озирал расстилавшуюся перед ним даль веков – излюбленный им Рим или европейское средневековье: он как бы сам — исследовательски — путешествовал там и с большою внимательностью собирал многочисленные и разнообразные материалы будущих своих творческих построек.
И в самом деле, исторические романы Брюсова носят на себе следы строгого архитектурного замысла и подлинной стройки, развертывающейся перед читателем по мере его углубления в любой художественный труд этого писателя-историка. Но ежели историческая проза Брюсова невольно вызывает представление об архитектуре, то чеканные брюсовские стихи заставляют произнести слово «скульптура». <…>
Он и говорил — как бы писал, и притом набело, сразу, короткою формулой. Я помню его первую фразу при нашем весьма позднем знакомстве (мы вместе выступали на одном большом вечере вскоре после Февральской революции):
— Мы не были знакомы, но мы отлично знаем друг друга. (Улыбка.) Знаем насквозь: вы меня, а я вас (Новиков И. Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 354, 355).
Брюсов предложил журналу «Летопись» перевод первой песни «Ада» Данте с обширным комментарием [231]. Предложение его было отвергнуто:
Нам кажется, что помещение в «Летописи» небольшого отрывка из Данте было бы явлением случайным и мало обоснованным. Ваше предисловие заставляет ждать чего-то очень значительного, далеко превышающего тот коротенький отрывок, который за ним следует. Отсюда невольно рождается мысль о переводе всего «Ада», если не всей«Божественной Комедии». Задача, достойная Вашего имени, — задача, выполнить которую «Парус» считал бы своим национальным долгом (Письмо издателя журнала А. И.Тихонова от 17 марта 1917 года. ОР РГБ).
Решения редакции я оспаривать не буду, хотя с ним все же не согласен: по моему мнению, новый перевод, хотя бы и одной песни Данте, есть новое явление в русской литературе и, следовательно, уместен в журнале, при условии, конечно, если самый перевод хорош (Ответное письмо Брюсова от 25 апреля 1917 года).
Валерий Яковлевич жил на Первой Мещанской: чтобы попасть к нему, я должен был пересечь знаменитую Сухаревку. <…> Брюсов жил неподалеку: можно было бы припомнить и Зарядье с его лабазами, и «Общество свободной эстетики», и «Литературно-Художественный кружок» на Большой Дмитровке, где Валерий Яковлевич проповедовал «научную поэзию», пока члены кружка, прекрасно обходившиеся и без науки, и без поэзии, играли в винт. Брюсов одевался по-европейски, знал несколько иностранных языков, в письма вставлял французские словечки, на стены вешал не Маковского, а Ропса, но был он порождением старой Москвы, степенной и озорной, безрассудной и смекалистой.