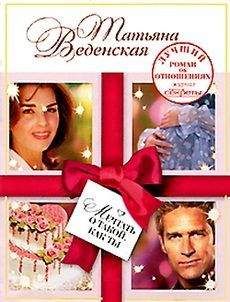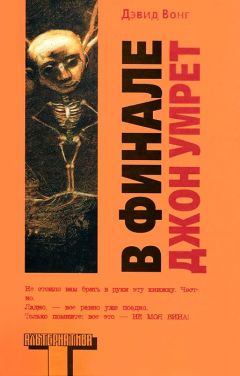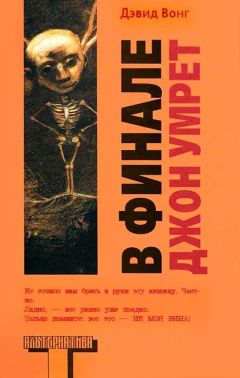Руслан Киреев - Пятьдесят лет в раю
Никакого просветления, никакого прозрения, никакого праздника сердца. Но может быть, думал я, вновь оказавшись в своей темной каюте, дело не столько в подмене паломничества коммерческим туризмом, сколько во мне самом? В моей невосприимчивости к святыням? В неподготовленности к ним. Не в паспорте у меня была черная метка – нет, не в паспорте, теперь я все больше склонялся к этой мысли.
Лев Шестов говорит, что ангел, слетающий к человеку, чтобы забрать его душу, «сплошь покрыт глазами». Зачем ему столько глаз, спрашивает Шестов и отвечает: не для себя. Они на случай, если душа, за которой явился ангел, еще не готова покинуть тело, и тогда он оставляет человеку, уже посмотревшему в лицо смерти, дополнительную пару глаз. Тут-то и открывается у него второе зрение.
Почему же, думал я, у меня не открылось? Да, я не заглядывал в лицо смерти, но я беспрестанно и отнюдь не беспристрастно размышляю о ней – неужто этого недостаточно? Или, может быть, многоглазый ангел душу мою давно забрал, а я этого не заметил? Забрал и никаких глаз не оставил: зачем обездушенному телу духовное зрение? Вот и увидел на Святой Земле лишь торгашество, да толчею, да людей с автоматами, да шашлыки, что жарят прямо против храма Рождества…
Из головы не шли – и тогда, в каюте, и после, по возвращении в Москву – чеховские слова о том, что если веры нет, надо «не занимать ее шумихой, а искать, искать, искать одиноко». Одиноко! И не Бога, говорит Чехов, искать, а веру. Мыслимо ли такое? Наверное, да. Вот ведь обошлись Лаоцзы и Конфуций без Бога, создав религии, в которых Его нет. Путь, для русской традиции неприемлемый? А как же тогда наш Гоголь, причем Гоголь поздний, когда трансформация светского писателя в писателя христианского, по сути дела, завершилась?
«Одиссей, – читаем в „Выбранных местах из переписки с друзьями“, – во всякую трудную и тяжелую минуту обращается к своему милому сердцу, не подозревая сам, что своим внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуту бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге».
Пассаж этот, полагаю я, можно толковать двояко. И как доказательство присутствия Бога в качестве объективной реальности – вне зависимости от того, осознает эту реальность человек или нет, и как персонализацию собственного духа, как возведение его в некий высший орган. В последнем случае бог (с маленькой буквы!) – понятие не столько теологическое, сколько этическое. Вот и Гегель в вольном переложении Евангелий, каковым является его «Жизнь Иисуса», то и дело оперирует сугубо нравственными категориями. Так, слова Луки о мытаре, который, моля Бога о снисхождении к себе, грешнику, «пошел оправданным в дом свой» (18:14), Гегель переводит следующим образом: «Пошел домой с успокоенной совестью».
Не оправданным, а с успокоенной совестью, что далеко не одно и то же. Оправдание предполагает оправдывающего, совесть же – штука сугубо интимная и вмешательства каких бы то ни было инстанций свыше не требует.
Итак, мое неудавшееся паломничество на Святую Землю ни на гран не приблизило меня к Богу, и тогда я сделал то, о чем подумывал уже давно, но на что никак не мог отважиться. Я крестился. Таинство было совершено недалеко от дома, в храме Воздвижения Креста Господня, что в Алтуфьево, у самой кольцевой дороги.
Впервые я побывал здесь в годовщину бабушкиной смерти и был несколько обескуражен, что практически впритык к церкви располагается психиатрическая больница. Мирно прогуливались пациенты, кто в пальто, кто в шубенках, накинутых прямо на длиннополые серые халаты. В соседстве храма и психушки мне почудился некий смысл, и это отвлекало, мешало на главном сосредоточиться: на бабушке… В начале пятидесятых, я уже в школу ходил, во второй или третий класс, она работала одно время в таком же богоугодном заведении, на топливном, кажется, складе, и психи, крепкие, здоровые на вид дядьки, пилили на козлах дрова.
С отрешенным видом вошел я в церковь, купил три свечи – бабушке, тете Мане и дяде Диме, а что дальше делать, понятия не имел, стоял истуканом среди шепотков и шорохов, сквозь которые знакомо проступило вдруг слабое потрескивание. Вот под такое же потрескивание беседовали мы с Любой в ту праздничную ночь у бабушкиного гроба – беседовали и даже смеялись. Тогда я не стеснялся своего приподнятого чувства: Стасикина жена, знающая толк во всем этом, как бы разрешала его, санкционировала, теперь же ее не было рядом, и я, обязанный скорбеть, – ради этого и явился сюда! – испугался… ну если и не душевного вакуума, то уж наверняка – душевной разреженности. Служба еще не началась, там и сям устраивались, крестясь и причитая, старушки на раскладных стульчиках. Кто в потертых матерчатых сумках принес их, кто в современных полиэтиленовых, с эмблемами. На одной красовался даже Михаил Боярский. У хозяйки этой сумки и осведомился, куда ставить за упокой. Полиэтилен шуршал, старушки со вздохом приветствовали друг друга, одна говорила, что в булочной халву дают.
Но были и другие. Поблизости стоял молодой мужчина в кожаной куртке, с бородкой на живом, умном, торжественно сосредоточенном лице. С детьми пришел. Девочке – лет десять, мальчику – шесть-семь, но явно не впервые здесь. Дети не пялились по сторонам, не выглядели растерянными или подавленными, крутились и перешептываясь, не подозревая, как им повезло. Повезло, да. Меня в детстве раза два или три брала с собой в церковь тетя Маня, водить же регулярно (и грамотно!) было некому. А уж крестить – тем более. И вот теперь, на шестом десятке, решил восполнить недоданное судьбой.
Сопровождала меня, разумеется, жена – в отличие от меня, крещенная еще в младенчестве, хотя и потихоньку от отца. К моему разочарованию, таинство происходило не в самом храме, а в небольшом, с облупившейся штукатуркой доме причта, то есть в административном, говоря светским языком, помещении.
Помимо меня, был еще один взрослый – парень лет двадцати пяти. Облаченные в длинные крестильные рубашки, стояли мы с ним на ступенях баптистерия, принятого мной за небольшой бассейн. Детей погружали в купель, на нас, взрослых, брызгали с помощью кропила – водица, обратил я внимание, была подогретой. Потом на меня был надет тот самый, купленный в Иерусалиме крестик, и мы трижды обошли гуськом, следом за батюшкой, поющим тропарь, в котором я не разобрал ни слова, наш безводный бассейн. Впереди несли детей, мы в резиновых тапочках осторожно двигались следом. Но когда началось пострижение волос – я слегка заволновался: у младенцев было что остричь, у моего взрослого напарника – тоже, а вот что возьмет полусонный священник с моей лысой головы?