Тамара Петкевич - Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания
Когда через короткое время отпустило, схлынуло безумие собственной боли, обожгла его боль, ударило его отчаяние, его непонимание, кинулась обратно. Помочь. Сказать: «Наша мука едина, Боря! Так не надо, так нельзя».
Дорога была пустынна. Вокруг ни души. Заглядывая за штабеля дров, добежала до зоны. Всеми клетками существа своего ощущала, как ему там, за проволокой, плохо. Села за письмо: «Что это с нами такое?»
Борис понимал, что был жесток. Он и тогда, и позже не оставлял попыток объясниться по этому поводу. Неловко писал:
«Так вот. Даже на фоне тогдашних моих убеждений обмен письмами и откровенностями о тебе с А. О. был явлением кратким и исключительным. Насколько глубока, тесна была наша с ним „враждующая близость“, даже ты еще не знаешь. Но еще больше была нужда понять тебя, помочь тебе, увести тебя из состояния тех лет, защитить от его (да, да, все-таки именно его) мировоззрения. Забавно, что от него я не скрывал и этой своей цели. Уровень наших отношений, нас троих, казался мне достаточно высоким для такого необычного способа „искренности втроем“. И были минуты такой тоски о тебе, такого недоумения, возмущения и нужды, что мне казалось: да будь твоя душа книгой, запертой в стальном сейфе под охраной, я, не позволив бы себе задуматься, убил бы часового, взломал бы замок и украл ее, чтоб прочесть, понять, вырвать мучительно мешающие, ложные, на мой взгляд, страницы и, вписав новые, вернуть тебе, как будто ничего не случилось. Ну понятно же, все это ужасно неверно. А на мой нынешний взгляд просто преступно, но это же я говорю, как было, как два рафинированных умника самовластно поделились подарками твоей души. Оба для „блага“, которое каждый понимал по-своему, и оба вопреки твоей воле…»
Ну, а Александр Осипович? Мой прекрасный, высокий Учитель? Как мог он? И мог ли?
Не тогда — сразу, а позже я спросила его об этом в письме. Он ответил:
«…Сказать, что не читал — ты пойми: это было бы ему оскорбительно. Во мне была великая жалость (отвратительное и чувство и слово), но и нежность, потому что чувствовал, как он любит, и доверие к этой любви (помнишь: „Борису верь“). Я вернул ему тетрадь, но мы ничего не говорили. Я сумел отделаться неопределенными междометиями, вроде „Да!“, „Тамара же!“. Он был, конечно, убежден, что я прочел. И все. Пойми: ты во все годы нашей жизни была для меня святой во всем. И никогда, даже в самом начале, даже в Княж-Погосте, в Межоге, не могло быть, просто не могло быть ничего от намека на предательство. Ты пишешь: „Если Вы это сделали, то так было нужно. Это продиктовано чем-то, чего я еще не поняла, но это от доброго!“ Нет! Нет! Нет! Вечная моя, единственная. Никогда предательство не бывает „от доброго“. Я бы просто не мог жить, конкретно, человечески не мог бы, если бы во всем всегда не был бы чист перед тобой. Не мог бы от презрения к себе…
Твой А.Г.»
Я как-то получила от него непривычно для него названные «Ламентабельные (то есть Жалобные) вирши».
Не избежать нам вечных перемен:
Где билась жизнь, там неминуем тлен.
От Времени тускнеет лик камен,
От Времени крошатся обелиски,
От Времени теряет крепость виски,
От Времени когда-то очень близкий,
Проверенный на испытаньях друг
Ненужным делается вдруг…
Я помню письма с ласковым приветом,
Хотя по некоторым явственным приметам
Они служили только рикошетом,
И выброшенный ныне вместе с тарой
Не более, не менее как Тамарой,
И жизнь влачу и немощный, и старый,
Обросший мохом и седой утес
От Времени свалился под откос.
С каким простодушием говорилось в этих строчках о той же потребности в верности, жажде быть единственным для души другого человека. Всех знобит в этом загадочном мироздании. Все мы так странно одиноки. Ищем. Требуем. Разбиваемся. Вновь тащимся своими окровавленными коридорами к Истине, Теплу, Нежности.
Измученного и больного Александра Осиповича тем временем отправили в этап на дальний Север «в лагеря особого режима».
Командировки в Ленинград оставались неизбывным искушением. Ленинград был иной — и биографической, и психологической территорией. Я постоянно стремилась туда.
Задания были нелегкими: отвезти детей железнодорожников в санаторий под Ленинградом или тяжелобольного на консультацию. Я бралась за все.
С больными детьми в дороге приходилось туго. Поднять и снять с полок, вывести строем погулять на больших станциях, покормить… Кто-то из ребят постарше убегал, прятался, а поезд вот-вот должен был отойти. Нередко пассажиры, сочувствуя мне, принимали участие в розыске детей, увещеваниях, уговаривали: «Поспите часок!»
Мне, и правда, начинало казаться, что мало-помалу я возвращаюсь в реальное сегодня страны.
Главным в Ленинграде было повидать сестру. Мне все в ней нравилось: улыбка, походка. Я верила, что растоплю ее ледок по отношению к себе.
В одном из разговоров Валечка ответила на несколько вопросов:
— Да. Люблю одного человека.
— А он?
— И он меня любит.
— Кто он, Валечка? Живет в Ленинграде?
— Нет, в Москве.
— Вы собираетесь пожениться?
— Нет.
— Почему? Сестра замолчала.
— Ты не сказала, где он работает. Кто он?
— Служит в войсках МВД. В охране Кремля.
Вот оно что! Вот в чем дело! Все это время сестра подавляла в себе… Горечь? Досаду? Или более определенное и сильное чувство? Шутка ли: невеста охраняющего Кремль человека имеет родную сестру, отсидевшую семь лет по политической статье!
Перенесшая блокаду, мобилизованная из детдома на рытье газопровода, проживающая в общежитии на тычке, сестра не могла быть счастливой из-за меня! Новая проблема.
Подсказать, как устраниться из биографии сестры, не быть ей помехой, может, подумала я, сам Аркадий (так звали жениха сестры). Написала ему.
«С вашей стороны, — ответил он, — помочь ничем нельзя. И прошу убедительно, если не хотите сделать хуже, то не предпринимайте ничего… Может, я и сам как-нибудь выпутаюсь из этого».
Когда я приехала в Москву, жених сестры назначил мне встречу:
— На Воробьевых горах. Согласны?
Склоны гор были захламлены. Мы поднимались все выше, выше.
— Взгляните отсюда на Москву. Красиво? — спросил Аркадий. Мне понравился подобранный, красивый молодой человек.
— Что же мы будем делать с родственниками, вроде меня? — начала я, приготовившись к откровенному разговору.
— Родственники как родственники, — отвел он такое начало. — А вы с Валюшей похожи.
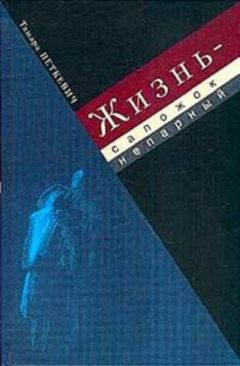


![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](/uploads/posts/books/124/124.jpg)
