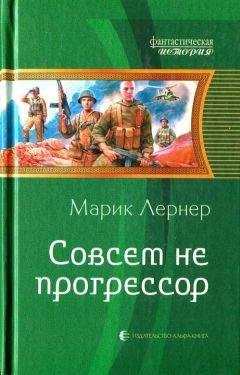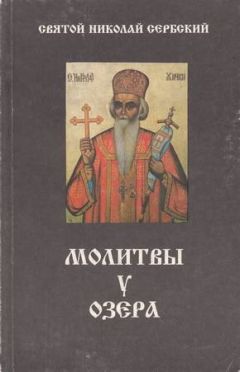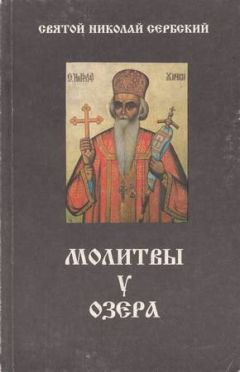Василий Ключевский - Россия в исторических портретах
Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, – это все-таки задавало бы некоторую работу уму, – а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук. Какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочиновный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма.
Многим русским вольтерианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость – не знать никаких наук. С просветительною философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикой: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов Божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических. Словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был преемником, едва ли даже не был натуральным сыном этой самой индульгенции.
При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку. После оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерианцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом, воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.
Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации, русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения.
В продолжение 5–6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы «Трутень», «Живописец» и «Кошелек» по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов.
От журналов Новикова всего больнее досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; «Кошелек» даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой дистракции». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных.
В «Живописце» есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах со своими читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмехаю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русскою сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей.
Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных карикатур, по крайней мере, видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах? Она не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа, – ведь вмужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это, – и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца, ни Бога ся боят, ни человека ся стыдят. Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбудительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распущенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое миросозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.